Онлайн чтение книги
Три весны
Весна третья
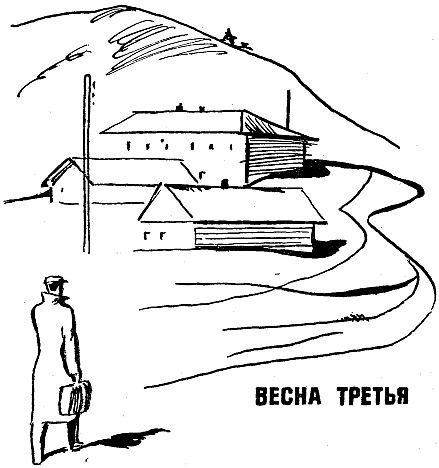
1
Алеша узнавал и не узнавал родной город. На первый взгляд, все здесь была по-прежнему. Те же ровные, как струны, улицы с тополями, те же беленные известью дувалы, на которых космами висела пыль, те же говорливые, звонкие арыки. Как всегда, гудел огромным потревоженным ульем Зеленый базар и, позванивая на перекрестках, бежали вниз и вверх по улице Карла Маркса трамваи.
А за горветкой дороги еще не просохли. Люди с трудом выбирались из густой, липкой грязи, которую нельзя было ни обойти, ни объехать.
И все-таки при внешней похожести что-то в городе нарушилось, сместилось, изменилось. Не случайно Алеша испытывал гнетущее чувство тоски. И еще жило в душе ощущение, что у города взято что-то самое ценное.
А недоставало Алеше друзей, с которыми и связывалось накрепко все, что было здесь лучшего. Далеко-далеко воевали сейчас с фашистами Костя, и Илья, и Вася Панков, и Петер. Война уже шла по Германии, по Венгрии, по Чехословакии. Всем было ясно, что кончится она в этом, в сорок пятом, году.
Выздоравливал Алеша медленно. Еще сейчас заметно припадал на правую ногу и поэтому не спеша ходил с палочкой. Давали себя знать и другие раны, а больше — тяжелая контузия, которую он получил в бою за Миусом.
Алеша не помнил, как его подобрали, как везли в армейский госпиталь в поселок угольной шахты. Только здесь он пришел в сознание, и из палаты видел в окно высокие терриконы, которые своими очертаниями напоминали ему Саур-могилу.
Лежал Алеша рядом с бледными и окровавленными людьми. Их привозили сюда из-за Миуса, быстро сортировали, иные умирали, не дождавшись операции, или прямо на столе под ножом хирурга. Ночью с потушенными огнями приходили на шахту поезда, составленные из санитарных теплушек, и забирали раненых. Шли поезда в далекий тыл.
У Алеши начиналась гангрена. Медлить с операцией было нельзя. Хирург твердо решил ампутировать ногу, это давало гарантию, что раненый будет жить. Но, к счастью, того хирурга, большого специалиста по ампутациям, пригласили в какой-то госпиталь или больницу для консультации. Алешу оперировала пожилая и очень усталая женщина. Она искромсала ножом вспухшую, синюю Алешину ногу, но ампутировать не стала. По-матерински пожалела молоденького лейтенанта.
— Была бы кость, а мясо нарастет, — сказала она, отправляя Алешу в послеоперационную палату.
И только через полмесяца, когда Алеше стало несколько лучше, его эвакуировали в сторону Сталинграда. Дважды немцы бомбили в пути эшелон. Они не могли упустить случая расправиться с безоружными, беспомощными людьми. И были новые жертвы среди раненых и медперсонала.
Но эшелон все-таки пришел на станцию Морозовскую, а потом на автомашинах, в кузовах, раненых везли на хутор Грузинов, где был фронтовой эвакогоспиталь. Помещался госпиталь в деревянном здании школы, одноэтажном, обветшалом. В бывших классах ножка к ножке и спинка к спинке стояли двухъярусные железные койки. И все же мест не хватало, и между двумя ранеными клали третьего. Что поделаешь, когда раненые уже прибыли и нужно спасать их! А других подходящих помещений на небольшом хуторе не имелось.
А сотни раненых лежали пластом на жестких постелях, боясь шелохнуться, чтобы не причинить острой боли себе и соседу.
В каком-то кошмарном забытье прошла для Алеши первая ночь в Грузинове. У него был сильный жар. Температура прыгнула под сорок. Огромные языки багрового пламени плясали перед глазами. Раскалывалась голова, нестерпимо болели раны. А утром, сразу же после обхода врача, Алешу унесли на перевязку.
В комнате с белыми занавесками на окнах, белыми чистыми простынями на столах Алешу встретили люди в белом. Медсестра, которую за строгий характер раненые называли «гвардии Дунькой», долго и мучительно разматывала бинты, присохшие к ранам. Хирург, суровый и немногословный, с интересом разглядывал изрезанную ногу:
— Вам повезло, лейтенант Колобов, — и добавил, обращаясь к «гвардии Дуньке»: — Готовьте его ко второй операции. Нужен рентген. Осколок глубоко проник в область левого бедра.
Хирург обрабатывал рану, бросая в таз алые от крови тампоны. Алеша, сцепив зубы, следил за тем, как быстро и точно движутся руки хирурга.
Ногу положили в гипс, и врач распорядился, чтобы Алешу отнесли в ту палату, где несколько посвободнее.
Вскоре Алеша ближе узнал нескольких раненых из палаты. Неторопливые рассказы бойцов о прошлом житье-бытье скрашивали однообразную жизнь госпиталя, отвлекали от болей и мыслей о предстоящей операции.
А как-то вечером в палату заглянула девушка в белом халате и шапочке.
— Колобов есть? — спросила она.
— Да, — спокойно ответил он, решив, что это принесли ему жаропонижающие таблетки.
— Из Алма-Аты? — спросила она, пробираясь к нему.
Он не успел ничего сказать. Она разглядела его в сизых сумерках комнаты, и ее глаза округлились:
— Леша… Ой, да как же ты!..
Это была Тоня Ухова, дурнушка Тоня, которая жила недалеко от Алеши, на том же болоте, та самая Тоня, которая донесла на Алешу Петеру. Она присела на краешек кровати, осторожно взяла его руку, погладила ее и легонько пожала.
Алеша пристально смотрел ей в лицо, словно пытался прочитать на нем все, что случилось с Тоней за время войны. Оно было прежним. Лишь на правой щеке чуть обозначилась ямочка, когда Тоня улыбнулась, а потом и ямочка спряталась.
— Сестра милосердия, — прошептал Алеша. — А почему я тебя до сих пор не видел? Ты работаешь здесь?
В другом конце комнаты кто-то замычал и скрипнул зубами. Тоня повернулась на стон, прислушалась.
— Я была на передовой. После ранения попала в этот госпиталь. В самый раз, когда бои шли под Сталинградом. А подлечилась, оставили меня здесь, в женском отделении, — сказала она. — Вступила в партию. Можешь поздравить.
— Я рад за тебя.
— Привыкла уж в госпитале, — проговорила после некоторой паузы.
— Тоня, у вас не было последнее время раненой санитарки? Ногу ей оторвало. Наташа Акимова. — Алеша приподнялся на локте и задышал тяжело, как будто делал какую-то трудную работу.
— Ты лежи. У тебя все идет нормально. Я смотрела историю болезни, — Тоня поспешила успокоить его.
— Сестричка, — позвали в другом углу комнаты. — Кажется, кончился он.
Тоня поспешно поднялась с койки, прошагала по комнате. И Алеша увидел, как она взяла и тут же опустила чью-то коченеющую руку.
Минуту спустя пришли санитары с носилками. Их встретило общее молчание. И сами они, не сказав ни слова, положили умершего на носилки и на вытянутых руках, поверх коек, пронесли к двери.
Тоня ушла с санитарами, слабо кивнув в сторону Алеши.
Сосед по койке проводил ее долгим взглядом и сказал с явной завистью в голосе:
— Везет же людям!
— Да вы о ком? — Алеша повернул к нему голову.
— Да уж не о тебе. Вы, как я понял, давно знакомы?
— Учились вместе, в одном классе.
Раненый сел на койке, поджав по-восточному короткие и худые ноги, на которых висели широкие, как юбка, застиранные штаны из синей байки. Он зачем-то пощупал свой кадык и грустно улыбнулся:
— Я знал много женщин. Я ценил в женщинах темперамент — страстность. И жестоко ошибался. Темпераментной может быть и лошадь. А главное в женщине — святое чувство верности. Ты представить себе не можешь, как она любит его! Когда рядом с ней Назаренко, она никого больше не видит.
— Тоня? — удивился Алеша.
— Тебе кажется странным?
— Она когда-то клялась не любить и не выходить замуж.
«Так вот почему Тоня не на передовой. Интересно, он-то как? Любит ее?» — подумал Алеша. Ему захотелось, чтобы все у Тони было хорошо.
Назавтра Тоня пришла снова. За окнами палаты гудел ветер, от его порывов дребезжали окна. На душе у Алеши было тоскливо от воспоминаний о доме, о Наташе, о школьных и фронтовых друзьях, которых разбросала война по белу свету. Соберутся когда-нибудь они вместе? Вряд ли.
— Ты никого не встречала из наших? — спросил Алеша, когда Тоня подошла и наклонилась к нему.
— Нет, а ты?
— На фронте видел Илью Туманова.
Алеша рассказал ей про короткую встречу за Миусом.
Так и не довелось сойтись им снова, как договаривались.
Тоня слушала внимательно, не сводя глаз с Алеши. Да, слаб он. Лицо белое, с зеленоватым оттенком. Значит, потерял много крови.
— Никакой Акимовой у нас не было и нет. Я проверила по спискам с самого января, — заговорила она, когда он смолк. — Эта Акимова — знакомая тебе? Твоя девушка?
— Да, мы с ней подружились. И ее ранило в первый же день наступления.
— Ее из армейского госпиталя могли эвакуировать сразу в глубокий тыл. Так чаще всего и бывает, когда грузят раненых в специальные санитарные поезда, — сказала Тоня.
Он вздохнул:
— Я найду ее. Все равно найду!
И Тоня призналась:
— Я тоже встретила такого человека, Алеша, такого человека!.. Ты только не смейся надо мной. И мне боязно за свое счастье. И еще как-то не по себе, что время теперь трудное, военное, столько беды, горя кругом, а я думаю о своем личном, дрожу за него, — она вспыхнула румянцем и отвернулась. — Я такая счастливая!
— Мне кажется, что это всегда прекрасно.
— Любить?
— Да.
— Я тоже так думаю.
А стал Алеша через несколько дней поправляться после второй операции, Тоня зачастила к нему, и они говорили снова и снова о том, о чем никогда не открылись бы никому другому. Однажды Алеша познакомился с Назаренко и узнал от него, что тот любит Тоню.
Тогда Алеша уже встал на костыли. В крохотной комнатушке, которую занимал в одной из хуторских хат старшина Назаренко, допоздна пили кислое красное вино за скорую победу.
Вскоре госпиталь переехал поближе к линии фронта, а раненых, в том числе и Алешу, развезли по разным местам…
Как давно это было! Впрочем, прошел всего год. Алеше залечили раны. Хуже было с контузией. Вдруг начались нервные припадки с адской головной болью, а иногда терял сознание.
Только в марте сорок пятого Алеша появился в родном городе. Ему, как инвалиду войны, должны были платить пенсию. Но он думал об устройстве на работу. Ходил по городу и присматривался к объявлениям у трамвайных остановок и рекламных щитов.
2
Был по-настоящему теплый день. Такие дни иногда выдаются здесь ранней весной. Пусть земля еще дышит холодком и в скверах не совсем растаяли сугробы, а солнце ласково обнимает прохожих, греет им бока, спины, заставляет их радостно щуриться.
Алеша вспотел, пока шел к Ахмету. А ведь на нем и была-то одна гимнастерка. В комнатке же ему стало прохладно, а полчаса спустя он совсем замерз. Очевидно, давно не топили печь, на которой, как и на стенах, отсырела и кое-где отвалилась известка.
— Ты набрось одеяло на плечи, — посоветовал Ахмет, на котором была старая, много раз штопанная разными нитками теткина кофта. Он кутал в кофту свою плоскую грудь, словно больше всего мерзло у Ахмета сердце.
Алеша позвал Ахмета на улицу, но тому очень хотелось показать свои работы. Может, за всю войну запросто пришел к нему первый гость. Художники, конечно, не в счет, они хоть и лучше разбираются в живописи, но не всегда говорят то, что думают. Черт возьми этот вольный цех!
Ахмет перебирал наваленные в углу картины и этюды. Одни из них были написаны на мешковине, другие — на картоне.
— Сейчас, сейчас я найду тебе, — волнуясь, говорил он.
Алеша, сидя в старом, скрипучем кресле, спиною к окну, наблюдал за Ахметом, за его маленькой фигуркой. Несомненно, он был болен. Об этом говорило его лицо: белый, почти стеариновый лоб, малиновые пятаки румянца под скулами.
— Я хочу показать тебе мою последнюю работу. Я написал ее прошлым летом, а с той поры так ничего и не создал для души, — грустно говорил он.
Ахмет все никак не мог найти то, что хотел показать Алеше. И он поставил перед Алешей, чтоб только тот не скучал, картину «Весна в садах». На полотне яркой зеленью дымились яблони на свинцовой жирной земле. Куда-то далеко уходила тропка, и на ней виднелся маленький кустик прошлогоднего бурьяна.
«Он действительно талантлив. Какое-то колдовство! Стихия, она обрушивается на тебя и властвует над тобой», — с восторгом подумал Алеша.
— Ахмет, помнишь, ты говорил, что не любишь писать зелень? Но ведь написал же.
— Это не зелень, Алеша. Здесь совсем нет зелени, — с надрывом закашлял Ахмет.
— Я понимаю. Картина сильная.
— Ее покупал у меня музей. Деньги не очень большие, но это так приятно. Еще останешься потомкам. И я много раз приходил в музей с надеждой, что ее повесят в доброй компании работ современных художников. Но ее пристроили, как задник в витрине, где были фрукты. Красные и лимонно-желтые яблоки, коричневые груши… Я на коленях просил картину обратно, я обещал принести взамен шикарнейшие натюрморты с ярчайшим национальным орнаментом. И они сдались.
Ахмет снова зашелся кашлем. Привычным движением достал из кармана скомканный платок и поднес его к губам. И Алеше показалось, что в уголках Ахметовых губ вздулись и лопнули красные пузырьки.
— Говорят, в картине нет необходимой жизнерадостности, — говорил Ахмет. — Но ведь Семкина культя — реальный факт…
— Чья? — резко подался к нему Алеша. — Чья культя?
— Семки Ротштейна. Был на фронте, ранен, теперь на заводе экспедитором. Ты не знал, что он в городе? Давно уже.
— Вот что! А ведь альпинистом был… С культей не ходить ему в горы, — сказал Алеша.
— Про наших ребят говорил. Васька Панков и Петер спасли Сему. Они в одной роте служили.
— Значит, экспедитором?
— Что ты! Важный такой, с портфелем. Его и не узнаешь. Мы как-то встретились в детском доме. Я вел там кружок рисования, а Семин завод шефствует над детдомовцами. Он нам и краски доставал, Сема. Авторитетнейшая личность!
— Вон оно что!
— Я завидую ему, — признался Ахмет. — Он нужен людям, все его уважают. Это ведь здорово, когда в тебе нуждаются. Верно?
— Конечно.
— Он и сам пластается на работе и другим не дает передыху.
Алеша посмеялся, а потом спросил:
— А еще кто вернулся?
Ахмет пожал худыми плечами:
— Больше не знаю. Да, Ванек приезжал домой на побывку. На Вере женился. Ну на этой самой, из нашего класса, с которой ты в «Медведе» играл…
— Ванек — на Вере? — недоуменно протянул Алеша. Ему была явно неприятна эта новость. — Но как же так?.. На выпускном вечере — я это прекрасно помню — она говорила, что никогда бы не вышла за него замуж…
— Так они все говорят, — равнодушно произнес Ахмет. — Забрал он Веру куда-то под Красноярск. Она тут трудно жила, Вера.
Чтобы перевести разговор на другую тему, Алеша кивнул на мольберт, на котором стояло полотно в подрамнике, прикрытое двумя полосами грязных обоев:
— А это?
Ахмет вздрогнул, как пойманный с поличным воришка, и повесил свою большелобую голову:
— Так. Рисовал по заказу филармонии. Рисовал я, но… С натуры. Два сеанса, примерно по часу, когда он приезжал в город.
С портрета на Алешу глядел лауреат, которого еще в сорок первом предлагали увековечить Ахмету. Но Ахмет отказался, он считал, что это не его дело — писать портреты. Ахмет хотел пропеть в живописи гимн борцам.
Ахмет хлопнул себя по квадратному лбу ладошкой:
— А небо мое под матрацем! Здесь, здесь оно! — и кинулся к кровати.
— Слушай, Ахмет, а ты знаешь, что Петер в плену? — глухо спросил Алеша.
— Да ты что?
Алеша утвердительно кивнул головой. Он видел, что Ахмет не верит ему. Впрочем, и сам Алеша не представлял себе, как это Петер сдался на милость врага. Вместо того, чтобы стрелять по фашистам, он бросил оружие и молил о пощаде. Нет, это не похоже на Петера. Но ведь пил же немецкие чаи!
— У меня в руках была немецкая листовка с Петеровой фотографией. Точно, — сказал Алеша.
Ахмет так и застыл с картиной в руках. Вороненые глаза сурово блеснули из-под насупленных бровей. Именно таким он бывал всегда, когда очень уж сердился. Алеша помнил школьные драки, в которых участвовал Ахмет. Обычно тихий, уравновешенный, он взрывался, как динамит, если его обижали.
— Я не был на фронте. Я хотел воевать, но меня не взяли, — нервно заговорил Ахмет. — И я не знаю, могу ли судить Петера. Но считаю, что он последний мерзавец. Тебе не нужно рассказывать, каким активистом он был. Член комсомольского комитета, вся грудь в оборонных значках. Чуть ли не в маршалы метил. Да что там! Он легко отказался от отца и так же легко от Родины. И погибнет он где-нибудь, как собака!..
Ахмет закашлялся. И Алеша с досадой подумал, что напрасно завел этот разговор. Очевидно, Ахмету нельзя волноваться. Вон как зашелся в кашле.
— Давай прогуляемся. На улице чудесно! — сказал Алеша, протянув руку за палочкой, на которую он опирался.
Но Ахмет остановил его. Ахмету хотелось показать свою картину, ту самую, которую он считал лучшей, потому и запихал под матрац, чтобы сберечь ее, не в пример другим полотнам.
— Прежде я не рисовал неба. Я не очень любил его, потому что не понимал. Всякие там кисейные облачка не очень увлекали меня… Теперь смотри! — Ахмет прислонил полотно к стене и провел ладонью по шершавой его поверхности.
За узкой полоской песчаной земли голубело небо. Высокое и бесконечное. Оно было прозрачным, как родниковая вода. И не скользило по небу ни одной тучки. Лишь на песке обозначилась смутная тень от чего-то. Может, тень самолета, а может, и птицы. Или набежавшего на солнце облака.
— Ну как? — торжествующе спросил Ахмет.
Алеша молчал, разглядывая картину, смысл которой явно ускользал от него. И, между тем, чувствовалось, что это не просто натура, перенесенная на холст. Это была какая-то большая мысль, высказанная в цвете.
— Уход от человека в природу… — Ахмет многозначительно засмеялся. — А здесь они слились воедино. Они начинаются здесь и кончаются, чтобы снова начаться. Это — образ вечности, Алеша. Ты взгляни на малахитовую кромку неба. У самой земли…
Алеша внимательно посмотрел на полотно, затем перевел недоуменный взгляд на Ахмета:
— Я не вижу никакого малахита. Ты дальтоник, Ахмет. Ты снова спутал цвета. Ты не в ладу с зеленью.
Плечи у Ахмета мелко запрыгали. Непонятно было, то ли смеется он, то ли опять у него приступ кашля.
— Дальтоник? А это что? — он ткнул пальцем в портрет лауреата. — Здесь ты найдешь все цвета. Они на своем месте. Помнишь, как учил нас физик? Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны. Красный, оранжевый, желтый и так далее. Но ты прав. Надо идти. Пойдем-ка выпьем, Алеша, за нашу встречу, — и, заметив некоторую растерянность Алеши, добавил. — На выпивку у меня найдется.
Ахмет накинул на плечи рыжий коротенький пиджак с дырами на локтях. Пиджак в нескольких местах был сильно испачкан масляной краской, и эти крупные пятна придавали его хозяину воистину живописный вид.
Они вышли на улицу и направились к Зеленому базару. И снова, в который уж раз, Алеша подумал о больших переменах в жизни города. На углу улицы Абая, у редакции газеты, он увидел толпу. Как непохожи были эти люди на тех, которые, читая первые оперативные сводки, надеялись на скорую победу! Дорого достались им четыре военных года.
И Ахмет, он тоже стал другим, совсем другим. Он уже не улыбался так открыто, приветливо, как прежде. В нем что-то надорвалось. И в этом виновата, конечно же, война. Люди думают о снарядах, о фронте, о победе. Что им до судьбы еще никем не признанного живописца!
Это, конечно, обидно. Алеше было жаль друга. Но помочь ему он ничем не мог. Алеша сам не знал пока, как он будет жить завтра.
— Я встречал Ванька. Не нравится мне он. Глупейшее, самодовольное лицо. Дослужился до капитана. Как ты дружил с ним? Ведь он совершенно неинтересный парень, — сказал Ахмет.
— Ты же помнишь, что с Ваньком я играл в футбол да иногда плановал. Потом, наверное, он не так уж глуп, если хорошо устроился и женился на Вере, — проговорил Алеша, как бы оправдываясь. И подумал, что Ахмету тоже нравится Вера, поэтому-то он и говорит так о Ваньке. Но Алеша отогнал эту мысль.
Они зашли в закусочную, где на каждые сто граммов водки выдавали без карточек блюдечко бордового, кислого винегрета. Торговал здесь плутоватый мужик с висевшей, как плеть, правой рукой в перчатке. А помогала ему румяная бабенка лет сорока, очевидно, жена.
В закусочной было грязно. Воняло капустой, потом, едким махорочным дымом. Небритые выпивохи с налитыми кровью глазами нахально сунулись к Ахмету:
— Дай, браток, пару рублей. Душа горит.
Ахмет ответил им резко:
— Нет у меня денег.
Его тон возмутил выпивох. Один из них — матрос на костылях — широкой грудью попер на Ахмета. Тогда Алеша решительно прикрыл друга плечом. Матрос хотел убрать Алешу с дороги, толкнул, но тот устоял.
— Не лезь, дядя. У нас действительно денег в обрез, — мирно сказал Алеша.
— Пусть так и говорит. А то врежем промежду глаз — и амба! Сыграет в ящик.
Ахмета окликнули рослые, интеллигентного вида парни, разделывавшие на пивной бочке вяленого леща. Когда он подошел к ним, парни принялись дружески похлопывать его по плечам. Это не ускользнуло от матроса, и он сразу обмяк, пробормотав что-то.
Ахмет тут же вернулся и, заняв у скрипучего прилавка очередь, сказал:
— Мне довелось работать у Эйзенштейна. У знаменитости киношной. Его к нам эвакуировали, и он снимал фильм про Ивана Грозного. Так я у него декорации малевал, сдельно. И вот с этими пижонами познакомился.
— Наверное, специалисты?
— Если бы! Оформление, прожекторы передвигают. В атаки ходят в «Боевых киносборниках». У них это лучше выходит, чем у фронтовиков. Типичнее.
В Алешиной душе рождалась неприязнь к этим холеным, жизнерадостным парням. Положить бы их хоть под одну настоящую бомбежку! И как бы сразу слетела с них вся напускная интеллигентность, все их пижонство!
Алеша отвернулся от ребят и снова встретился взглядом с рябым матросом. Машинально полез в карман гимнастерки, достал последнюю трешницу.
— Возьми, браток, — отдал ее матросу.
Тот молча рассматривал помятую зеленую бумажку, словно не веря, что это и есть деньги. И вернул трешницу Алеше.
— Мне ведь не милостыня нужна, а душевность, — глухо сказал рябой. — Куда ни придешь, везде тебя обрывают. Мол, знаем мы вас. Опять, мол, шуметь начнете. А почему они так хулят нас, браток? А потому, что хотят стать вровень с нами. Мол, все одинаковые, все воюем: вы — там, на фронте, мы — здесь. Врете, врете, гады! — вдруг закричал он. — Совесть у вас нечистая. На фронт никому дорога не заказана! Если ты патриот, иди туда и воюй!
— Успокойся, — сквозь зубы проговорил Алеша. — Не ты один воевал… И за всех не говори. Лучше посмотри, как люди работают в тылу, как им туго приходится…
Рябой рассмеялся, захрипел и, сильно стукнув костылем в дверь, ушел. За ним подались двое его друзей. На пороге они остановились и кулаками погрозили раздиравшим леща парням.
— А ведь матрос прав, — с тоской проговорил Ахмет. — Я понимаю, что кто-то должен быть и в тылу. Но если ты здесь, снимай шапку перед фронтовиками.
В этот день они долго ходили по улицам. Говорили о войне, о приближающейся победе. Лишь когда стало невыносимо холодно, они разошлись по домам. И Алеша долго думал о картинах, новых замыслах Ахмета, о Вере и Ваньке, а еще об ожесточенном кем-то рябом матросе из «забегаловки».
3
Найти работу оказалось не так просто, как считал поначалу Алеша. Он имел аттестат об окончании десятилетки, но у него не было ни здоровья, ни специальности. На склады и в магазины требовались грузчики. Но куда бы Алеша ни приходил, везде его мерили удивленным взглядом: хромой, с палочкой еле ползает. И даже справки не спрашивали, где Алеша значился инвалидом второй группы. Только смотрели на него и говорили:
— Кого нам было надо, мы уже взяли.
Ходил Алеша и в типографию, которой нужны были ученики в наборный цех. Директор отнесся к нему сочувственно: угостил папиросой, поинтересовался немудреной Алешиной биографией. Казалось, что теперь-то уж все в порядке. Но в конце концов и этот сказал:
— С грамотешкой у тебя нормально. Однако наборщик должен стоять у наборной кассы. А, кроме того, объявление устарело. Приняли мы сколько надо, и даже лишних. К сожалению, — и широко развел руками.
После нескольких дней упорных поисков работы Алеша разозлился и пошел в военкомат. Долго ждал приема у пожилого майора, к которому шли и шли демобилизованные по ранению офицеры. Каждый нес сюда свое горе и свою просьбу. И майор, бывший фронтовик, как только мог, так и помогал им. А если не в силах был помочь, то утешал. И поэтому большинство офицеров выходили из его кабинета умиротворенными. По крайней мере, так показалось Алеше.
Кабинет у майора был маленький. Он скорее походил на коридор: узкий и длинный. Стол и стулья завалены папками с личными делами офицеров. Наверное, у майора, из-за множества посетителей, никак не доходили руки до этих папок, иначе он убрал бы их куда-нибудь с глаз.
Майор встал и вышел из-за стола навстречу Алеше. Он был высок и сутул, на висках густо дымилась седина, а глаза светились отеческой добротой.
— Лейтенант Колобов, — представился Алеша.
— Гвардии лейтенант, — поправил майор, взглянув на Алешину грудь, на которой блестел золотом и алой эмалью гвардейский значок. — Присаживайся, голубчик, и говори, — он подвинул Алеше свободный от папок стул.
Но Алеша не сел. Не собирался он задерживаться здесь, знал, что за дверью тоже ждут другие офицеры. Он сразу же, отведя в сторону взгляд и запинаясь на каждом слове, стал рассказывать о своих неудачах.
— Я ведь согласен на любую работу, — доказывал он.
— Постараюсь что-нибудь найти подходящее. Только ты пойми и завмагов. Им поздоровее народ нужен. А ты, брат, поступай-ка в институт, раз у тебя десятилетка. Ты ведь молодой еще — не то, что я. Очень даже понимаю тебя, голубчик. Сам был в твоем положении, все понимаю. Иного демобилизуют из армии, а он и радуется. Отвоевал свое и едет к семье, к своей работе. А я этого страсть как боялся, что уволят меня в запас. Кочегаром работал на паровозе до армии, вот и вся моя профессия. Давно это было. Теперь же и тяжело у топки стоять — не те годы — и обидно как-то. Все ж пятнадцать лет в армии отбухал, до майора дослужился.
Алеша слушал майора и думал о том, что в общем-то ничего плохого и не случилось. Можно было сходить еще кой-куда по объявлениям. И насчет учебы он правильно говорит.
— Пенсия-то у тебя большая? — участливо звучал голос майора.
— Пятьсот пятьдесят.
— Оно ведь, что пятьсот, что тысяча. Деньги сейчас ничего не стоят. А карточка тебе — полкило хлеба. И на работе будешь получать столько же, — рассудил майор. И он проводил Алешу, улыбаясь и ободряюще подмигивая ему. Не унывай, мол, дружище!
Но как было не унывать, когда семья бедствовала. Картофель и свеклу давно съели, даже для посадки ничего не осталось. Спасибо хоть Тамаре, маленькой Тамарочке, что она иногда приносила с базара овощи. Но Алеша знал, какой ценой они доставались не по годам взрослой сестренке.
С той поры, как умерла бабка Ксения, весь дом держался на Тамаре. А умерла бабка в сорок четвертом. От голода. Она не думала о себе, когда ломала свой кусочек хлеба и половину отдавала Тамарочке. Она не могла поступить иначе, потому что у внучки были вечно голодные глаза.
Но бабка еще бы протянула немного, а может, и выжила бы, не случись несчастье. Тамара ходила в магазин, и у нее вытащили хлебные карточки, все три карточки. А произошло это в самом начале месяца. Страшно было даже подумать, как доживут они до новых карточек.
Дело было летом, и бабка Ксения толкла и варила крапиву. По воскресным дням отец ходил далеко в горы и приносил крохотные, едва завязавшиеся яблоки-дички, их тоже варили. Заведующий складом сжалился над отцом и дал три куска мыла. Мыло обменяли на хлеб и растянули эти жалкие крохи на целую неделю. Когда они кончились, бабка и померла. Последним усилием холодеющей руки она достала из-под себя несколько кубиков хлеба. Это были ее порции за все дни недели, она берегла их для Тамары. Бабка знала, что мыла больше не будет и что нечего поменять на хлеб из тряпья.
Может быть, она и спасла Тамару. Ценою собственной жизни.
После смерти бабки Ксении сестра бросила учиться и поступила работать на обувную фабрику. Подносила заготовки, убирала в цехах. Жить стало полегче. На фабрике была столовая. Кое-что оттуда Тамара приносила отцу.
Работала Тамара и сейчас. Алеше было жаль сестренку, но он ничего не приносил домой сам. Лишь тешил себя надеждой, что устроится на работу, а скоро сажать картошку, и посадит он столько, сколько сумеет купить семян на зарплату и пенсию. Ведь не обязательно сажать картошку целиком, можно резать ее на части. А лето пролетит быстро и, если огород поливать, картошки будет у них вдоволь.
Алеша ждал письма из военкомата, но его все не было. И тогда он вспомнил о Костином отце. Дядя Григорий всегда говорил о своей дружбе с директором, вот он и поможет устроиться. Да и вообще-то пора бы навестить Костиных родителей, узнать, где Костя и что с ним. Эх, и свинтус же ты, Алеша.
И вот снова она, хорошо знакомая улица, мощенная крупными — чуть ли не с голову — булыжинами. Недостроенные хибарки справа и слева. Какими их застала война, такими они и остались: у одних совсем нет крыш, другие — с заколоченными окнами.
Три года не ходил здесь Алеша. Целых три года. И улица не изменилась совсем. А он стал другим. Даже смешно ему от одного воспоминания о том мечтательном, наивном парне, который гонял футбол с Костей и Ваньком, да плановал и запоем читал стихи. Теперь он офицер, инвалид войны. Его полюбила Наташа. Только бы найти ее. А он найдет, непременно найдет!
Алеша по привычке надеялся увидеть Костину мать — тетю Дусю — у калитки. Но ее не было там. И Алеше тревожно подумалось, что это не случайно, что убит тот, кого она ожидала.
Она увидела Алешу в окно и открыла ему дверь. Одна была дома и боялась жуликов. Она всегда их боялась. У нее душа обмирала, когда кто-то рассказывал не только об убийствах, но и о карманных кражах.
— Батюшка мой! — всплеснула сильными, натруженными руками, пропуская Алешу в комнаты. — И какой же ты вырос красавец! Рана у тебя, видать, — показала на Алешину ногу. — Костика-то нашего нигде не встречал? Другие пишут домой, а наш все, наверно, своей барышне Владочке пишет. Да не знаю ее адреса-то, а то бы сходила. Ой, никак я не могу почтальонов видеть! Как подойдет почтальон к калитке, так у меня и сердце оборвется: неужели ко мне с похоронной?..
Тетя Дуся сильно постарела за эти три года. Углы ее рта опустились. На лбу и у глаз на загорелой коже глубже залегли белые морщины. Знать, нелегкой была ее доля.
— Так Костика моего и не встречал? — повторила она.
— Нет, тетя Дуся, — душевно и как бы прося прощения сказал Алеша.
Она перебирала пальцами кисти грубой шерстяной шали, словно считала их.
— Фронт ведь большой, — продолжал Алеша. — Теперь мы научились воевать. Прибавилось техники, и людям стало полегше.
— А ты ведь и не знаешь, что Костика ранило в сорок третьем, в Крыму. Он из госпиталя тогда писал. В голову его осколком…
— Вот как!
— Ты-то давно приехал? А барышню Костикову встречал?..
У тети Дуси была тысяча вопросов, и на каждый из них ей хотелось получить ответ. Она спрашивала и о боях, и о госпиталях, и о пенсиях, и еще о многом-многом, что знал и не знал Алеша.
Она усадила его за стол и принесла из Костиной комнаты черную бутылочку яблочного вина. Налила полный стакан, а на закуску достала из русской печки румяные картофельные лепешки. Только поставила их на стол, прямо в сковородке, и комнату заполонил духмяный запах, от которого у Алеши потекли слюнки. Но он сказал, отодвигая сковородку:
— Вино выпью, а вот этого не хочу. Недавно дома поел.
Однако тетю Дусю провести было трудно. Она понимала, что Алеша боится, как бы ее не оставить без обеда. И проговорила твердо, так, что ее нельзя было ослушаться:
— Ешь. Худой ты, батюшка мой!.. У меня, слава богу, есть картошка. А много ли одной надо!
— Как! А дядя Григорий? Разве он не с вами живет?
Тетя Дуся встала, закрыла печь заслонкой, не спеша подмела тряпкой шесток и сказала без сожаления в голосе:
— Забрали моего злодея в армию. Да хорошо хоть в Ташкент угнали. А то, пока их рота была тут, замучил он меня. Придет домой и начинает куражиться, зло на мне вымещать, что его с брони сняли. Плохо мы живем с ним, Лешенька…
В последних ее словах прозвучала такая боль и невысказанная тоска, что Алеше захотелось как-то утешить тетю Дусю. И он сказал:
— Вот приедет домой Костя, и вам легче будет. Он не даст вас в обиду.
Тетя Дуся расцвела. Недаром Алеша говорил о возвращении ее сына. Значит, уж скоро наступит он, тот счастливый час.
— Верно, что не даст. Теперь с ним не совладать Григорию. Партейный он у меня, Костик-то. А ты? Как же так? Несмелый ты, видать.
Алеша рассмеялся. Непосредственность простой женщины забавляла и умиляла его. И в самом деле, что она понимает в партии! Разве объяснишь ей, что партийность — это ответственность. Перед народом, перед страной. Человек должен быть очень честным, бескорыстным и смелым, чтобы носить партийный билет. Алеша, как о чем-то самом заветном и почти несбыточном, мечтал о вступлении в партию.
Тетя Дуся приглашала заходить еще. Может, Костик все-таки что-нибудь напишет. Дать Алеше его адрес? Но по этому адресу тетя Дуся отправила Косте три письма и не получила ответа.
Алеша так нигде и не устроился. Ему было стыдно, что Тамарочка делает для семьи больше, чем он. Поэтому, получив пенсию, Алеша прямиком пошел на Зеленый базар. Ему хотелось купить что-нибудь из продуктов, чтобы сварить их к вечеру, а когда придет отец с работы, устроить пиршество. Отец тоже страдал, что ничего не может сделать для Тамары, чтоб она училась.
На Зеленом базаре — невероятное скопище людей. Вопреки ожиданию, война не только не ослабила здесь торговлю, но оживила ее. Сюда шли с куском хлеба и котелком картошки, с поношенной гимнастеркой и кирзовыми сапогами, пачкою чая и еще со многим другим. Все это продавалось, менялось, расхваливалось на сотни голосов.
Меж торговыми рядами ходили слепцы с малолетними поводырями, гадалки и просто нищие. Они гнусаво пели жалостливые песни, предсказывали судьбу и тянули грязные и худые руки за милостыней. Понятно, что в это трудное время больше подавали искалеченным на войне. И Алеша видел стариков и старух, одетых в живописное солдатское рванье.
— Подайте несчастным.
— Не оставляйте на погибель.
А у столов, где бабы торговали солеными огурцами и капустой, заливался слезами седой паралитик:
— Ах, что мне делать бедняжечке теперя,
Когда цалует изменчицу другой?
Я сражу ее кинжалом острым
И укрою холодною землей…
Ему бросали в шапку монеты, бросали смятые рублевки. За него кланялась пожилая женщина, очевидно, его жена.
В толпе на Алешино плечо легла чья-то тяжелая рука, оглянулся — рябой матрос. Смотрит прямо в глаза и улыбается. Запомнил, оказывается. Позвал в сторонку, достал папироску из кармана широких клешей.
— Сегодня богатый я, — сказал, чиркая зажигалкой. — Идея, желаю угостить тебя, браток. Как фронтовик фронтовика. Мы-то ведь поневоле друзья. А что я плохого сказал тогда?
— Мне нужно кое-что купить, а потом я приду, — уклонился от приглашения Алеша. Ему не хотелось пить.
— Ну приходи, туда же. Только поспешай, браток.
Алеша еще потолкался по базару. Все было дорого, и он никак не мог решить, что купить. Наконец приценился к пачкам горохового супа в концентрате и уже начал расчет с молоденьким, пугливым ефрейтором. Но к Алеше подошел рослый и плечистый парень в светлой, хорошо отутюженной пиджачной паре. Он шепнул:
— Брось ты. Есть хлебные карточки. По сходной цене.
Алеша возвратил ефрейтору пачки супа и — к парню в штатском:
— Что у тебя?
Парень зыркнул по сторонам, но, очевидно, ничего опасного для себя не заметил, потому что тут же достал из внутреннего кармана пиджака несколько синих и зеленых бумажек. Он показал их Алеше так, чтоб были видны печати на них, и сказал:
— Карточки чистые. Любую можешь написать фамилию. Вот эти — рабочая норма, а эти — иждивенческие, по триста граммов. Какие тебе?
Как кадры в кино, быстро сменяясь, промелькнули в голове образы умершей бабки Ксении, сестренки Тамары, Ахмета. И стало трудно дышать, так трудно, как будто кто-то сдавил его горло.
— Ты где взял карточки, сволочь? — крикнул Алеша, хватая парня за лацканы пиджака.
— Пусти ты! — рванулся тот и поспешно сунул карточки в карман. — Чего пристал, псих!
— Нет, ты мне скажи, где их взял? Кого голодным оставил, шкура?
Вокруг них столпились люди. Парень тянул к ним руки, просил защиты, жаловался:
— Чего он ко мне пристал? Пьяный или сумасшедший! — и пытался разжать Алешины пальцы, все еще цепко державшие его.
— Товарищи, у него целая пачка карточек! — трудно дыша, сказал Алеша. — Хлебных карточек…
И вдруг парень с силой ударил Алешу кулаком в живот. Алеша от резкой боли скорчился, сник, но лацканов не выпустил. Пальцы держались за них так, что, казалось, невозможно их оторвать!
— Пусти! — угрожающе скрипнул зубами парень.
Но Алеша не боялся его. После фронта он ничего не боялся. Алеша ударил лбом в сытое лицо парня. И они оба упали на землю под встревоженный гул толпы.
А через некоторое время их допрашивали в отделении милиции. Дежурный по отделению похвалил Алешу:
— Без таких, как ты, фронтовиков, нам трудно справиться с этими вот жуликами, — сказал он, сурово глядя на парня, крутившего окровавленным носом.
Парень не запирался. Да, он продавал хлебные карточки. Но это карточки семьи. И он требовал, чтобы дежурный немедленно позвонил его отцу!
— Ты не кипятись! — спокойно говорил дежурный. — Позвоним, если надо будет. Ишь ты, он свои карточки продавал. А ешь ты чего, а твоя семья что ест?
— Не ваше дело! Последний раз я требую, чтоб позвонили отцу, — настаивал парень. И к Алеше: — Ты мне еще заплатишь за костюм!
— Жди, получишь!
Когда же Алеша появился в милиции на следующий день, дежурный, который снимал допрос, недовольно сказал:
— Влип я с тобой. Карточки действительно оказались у него свои. А ты в драку полез.
— Папы его испугались? Конечно, он вам наговорит.
— Не болтай лишнего!
4
Алеша хотел повидаться с Марой. Конечно, он понимал, что прежних отношений между ними не будет. Много пролетело времени.
И все-таки Мара была ему нужна. Она была его довоенной юностью. И если даже Мара — придуманная им самим легенда, все равно она близка и дорога Алеше.
Саманного барака, где Мара жила у Жени, не оказалось. Во время одного из обильных летних ливней барак раскис и завалился, и о его обитателях никто в соседних бараках ничего не знал.
Тогда Алеша пошел к Мариной матери. Знакомой тропкой он спустился с горки к арыку, возле которого в прошлогодних стеблях полыни и мальв стояли кряжистые тутовые деревья. Их не срубили на дрова, потому что от них, живых, больше пользы. И, словно в благодарность за это, — они выросли, раздались вширь и дали от корней побеги. А за арыком начинались огороды, разрезанные на участки самой причудливой формы. По межам лежали серые камни, и лишь кое-где поднимались тоненькие прутики тополей. Каждый клочок земли здесь кормил людей.
Как когда-то давно, дверь Алеше открыла мать Мары. На этот раз она приняла Алешу за почтальона. Когда он ступил на порог, протянула к нему дряблую руку.
— Наконец-то пришло. Почитаем, что он пишет. Сколько времени не было весточки! — озабоченно говорила она. — Я думала, он совсем позабыл меня.
Удивленный Алеша намеревался уйти, поняв, что она не в себе. Но женщина, разглядев звезду на пряжке Алешиного ремня, сказала:
— Вы военный, а мне показалось, что почтальон. Я жду письма от Бориса и всех принимаю за почтальона. А вы присядьте на лавку.
Алеша прошел к окну и сел. Он думал, кто же такой Борис. Что-то Мара ничего не говорила о нем.
Алеша вспомнил, что Борисом звали отца Мары. Но ведь он погиб в боях на Дальнем Востоке. Значит, женщина ждет писем, которые никогда не придут.
Ни о чем больше не спрашивая Алешу, она переставила со стола на подоконник жестяную ржавую баночку с табаком, свернула себе самокрутку костлявыми, крючковатыми пальцами, подала клочок газеты Алеше. Он тоже закурил, и некоторое время они молчали, попыхивая крепким, забористым дымом.
— Где живет Мара? — наконец спросил Алеша.
— В море-окияне, на острове Буяне, — одним махом выдохнула она и рассмеялась тоненько, совсем детским голоском. И, как сонная, побрела к своей неприбранной кровати. Ее лицо, зеленое и морщинистее, сильно вытянулось и окаменело.
Алеша повторил вопрос.
Она посмотрела на него долгим и пристальным взглядом, пытаясь вспомнить, где и когда она видела этого человека. Зрачки у нее расширились и остановились. Она качнулась, словно ее кто толкнул сзади, и руки ее упали с коленей и повисли, как веревки.
— Мара живет здесь. Вершинский ее выгнал, хотя она и не признается.
Алеша вскочил. Значит, все-таки вышла за Вершинского…
— Я пошел, — холодно проговорил он.
Выйдя на улицу, Алеша заспешил было домой. И остановился. Нет, он дождется ее. Они поговорят как старые знакомые. Поговорят и разойдутся. Все-таки она всегда хорошо относилась к Алеше. Он будет неблагодарным, если не встретится с Марой. А что касается Вершинского, то она ведь любила его.
Алеша вернулся. В дом он заходить не стал. С крутояра ему было хорошо видно все вокруг.
Он хмуро глядел себе под ноги и думал о том, что скажет Маре. Он не будет ее упрекать. Не к чему это, да и не имел он права на упреки.
Расскажет он ей о Наташе, которая на фронте, среди стольких мужчин, сберегла себя, не потеряла своего достоинства. Да и только ли Наташа такая! Женщина должна быть гордой, если хочет, чтоб ее уважали и ценили.
Мара подошла к нему, по-прежнему красивая, нарядно одетая. Она узнала Алешу и бросилась обнимать и целовать его в губы, щеки, в шею, не стесняясь прохожих. Целовала и роняла крупные горошины слез.
— Милый, милый, милый, — твердила она, целуя его.
Ему было стыдно. Вот пялятся в окна люди, смеются над ним.
— Приехал, милый. Живой! Я часто видела тебя во сне и все почему-то маленьким-маленьким. И ты просился ко мне на руки, — частила она. — Ты подожди минуточку, я занесу домой вот эту сумку, и мы погуляем с тобой и поговорим вдоволь. Ладно? Ну вот и прекрасно, мой родной, мой милый Алешенька!..
Взволнованный встречей, Алеша восторженно смотрел вслед Маре.
Когда Мара снова оказалась с ним рядом, Алеша сказал:
— Ты такая же, как была. Даже лучше.
— Нет, совсем не такая, — покачала она головой.
Мара взяла Алешу под руку, и они неторопливо пошли мимо изб и садов, в которых копошились люди. Мара светло улыбалась, поглядывая то на Алешу, то на сады, то на высокое безоблачное небо. Ее карие, цыганские глаза отсвечивали голубым, а ее плечо прижималось к Алешиному плечу.
Так долго шли они молча, перебрасываясь лишь совсем незначительными словами о ранней и теплой весне, о пыльных улицах и еще о чем-то, что сразу же забывалось. О прожитом говорить не хотелось. Ничего стоящего, как казалось им, в их прошлом не было. И все-таки они чувствовали, что ничего не сказать о трудных годах они не смогут, что разговор на эту тему лишь откладывается ими до какого-то момента, но что он обязательно состоится сегодня.
— Ты заходил к нам, в дом? — неожиданно спросила Мара, когда они вышли к вокзалу и зашагали по асфальту вдоль трамвайной линии. — Там мать. Она больная. Больше года держали ее в психиатрической. Стало лучше, но иногда заговаривается. Такую немыслимую ерунду несет, что ничего не поймешь.
— Да, это заметно, — согласился он, глядя, как гаснет ее красивое лицо.
— Конечно, она тебе жаловалась на меня, что я редко бываю дома. Иногда сплю прямо в цехе, когда выполняем срочные заказы фронта. Я теперь на заводе работаю… Или про Вершинского говорила? Она не любит его. Да, я ведь была замужем. За талантливым артистом, любимцем публики, которому на каждом спектакле подносят цветы, корзины цветов. Я ведь дура, без ума от него была. Броситься под поезд хотела. А он оказался пошляком и развратником. И в жизни притворялся, играл в благородство. Козявка жила страстью Отелло! Боже мой, страшно вспомнить, как это было все гадко!.. Сначала я исполняла некоторые его прихоти, гордостью своей поступилась, потому что жить с ним надеялась. Думала, что это привяжет его ко мне. А он стал издеваться над моими чувствами. Ужасно и мерзко… И я ушла от него. Вот так, Алешенька…
— У тебя ведь был еще один знакомый… — не поднимая глаз, сказал Алеша.
— Опер? Он на фронте. Почти до сорок четвертого писал, а потом как отрезало. Я его не любила. Из озорства дружила с ним. Жизни красивой хотелось, необыкновенной. Песням и пляскам цыганским выучилась. Помнишь? — она скривила губы в слабой вымученной улыбке.
— Конечно, помню.
— А это правда, насчет снов. И снился ты мне потому, что думала о тебе, боялась, как бы тебя не убили. О тебе на заводе все мои подруги знают, и все в тебя влюблены по моим рассказам. А делаем мы снаряды. Сутками на работе без отдыха.
— Перехваливаешь ты меня, — пробормотал Алеша.
Эти его слова как бы подхлестнули ее. Она принялась вспоминать все свои встречи с Алешей. Она хорошо помнила каждую деталь, и Алеша понял, какой всеочищающей была для нее их дружба.
— А теперь расскажи о себе, — попросила она. — Ты немцев видел?
— Конечно.
— Живых? Я даже не могу представить что за люди фашисты. Да как их только называют людьми! А много наших убито? И чего я спрашиваю? Много, если столько идет похоронных. Я не знала, где ты живешь, а то бы пришла к твоим узнать, живой ли ты, — она дернула его за рукав, остановила. Ей очень хотелось еще раз взглянуть в его светлые и усталые глаза.
— Я почти не писал домой. Особенно с фронта, — сказал Алеша.
— Ты трусил хоть один раз? Или ты мне не скажешь правду? Однако, все трусят вначале.
— Да, жутковато под бомбежками, — признался Алеша.
— И зачем эти войны, — в раздумье сказала она, ускоряя шаг. — Разве нельзя без них? Скажи, ты ведь умный, все понимаешь.
— Кто его знает! — уклончиво ответил Алеша. — Как бы чудесно было, чтоб навсегда мир. Вместо оружия, чтоб люди делали трамваи, автомобили. Растопили бы льды на севере, и тундру засеяли пшеницей. И росли бы у нас тогда по всей стране пальмы и ананасы.
— А ты будешь ко мне приходить, Алешенька? Мне трудно одной. Хоть иногда приходи.
— Если найду время. Я собираюсь на работу. Хочу где-нибудь пристроиться, — сказал он и после некоторого молчания добавил: — А то в Сибирь уеду, где служил.
— Но там ведь холодно.
— Не очень. Я привык.
Она снова остановилась и придержала его:
— Скажи, Алешенька, честно… Нравлюсь я тебе?
— У меня есть другая.
— Я ведь не замуж напрашиваюсь, — сухо произнесла Мара. — Куда мне замуж! Если только ты согласишься, я… так просто… твоей… буду… И никого мне больше не нужно! Нравлюсь?
— Да, ты хорошая, Мара.
Взгляд ее ожил, и она сказала:
— Теперь дай мне руку, — она взяла его руку и сунула себе в вырез платья.
Заметив людей на тротуаре, Алеша тихонько высвободил руку. А Мара по-своему поняла этот жест.
— Значит, не нравлюсь?.. Я не сержусь, Алешенька. Может, ты и прав, что не хочешь меня, после Вершинского. Потом ведь ты идешь со мной, а думаешь о ней. Я чувствую это…
Он проводил Мару, дав себе слово никогда больше не бывать у нее.
Мысль о поездке в Сибирь, которую он высказал совершенно случайно, с каждым днем все больше преследовала его.
«Уеду в Красноярск. Спишусь с Ваньком и уеду. По крайней мере, не буду сидеть на иждивении отца и Тамары. Нужно обязательно поговорить с отцом. Сколько уж времени живу дома, а не говорил толком. Отец посоветует, как лучше поступить».
Алеша не мог мириться с людской подлостью. Подлость, она даже формулу себе выдумала оправдательную: «Война все спишет». Делай, мол, что хочешь, живи, как хочешь, без оглядки.
Алеша всегда считал, что подлецов нужно выводить на чистую воду. Но вот он попытался уличить жулика, и ничего не получилось. У жулика нашлось оправдание. Жулика не возьмешь голыми руками.
И все же нужно бороться. Что и говорить, трудно Алеше в этой борьбе. Он ведь один на один с таким зубром. А если бы партийным был Алеша? Или работал в газете? Тогда он показал бы жулику! Он написал бы фельетон в стихах, который читала бы вся республика, а может, даже и вся страна.
И Алеша на минуту представил себе, как бросаются к киоскам тысячи людей. Они берут газеты, читают фельетон Алексея Колобова, смеются, негодуют и требуют призвать к ответу спекулянта хлебными карточками. А фельетонист уже готовит материал против морального облика артиста Вершинского, пьяницы и многоженца. Как бы вытянулась рожа у Вершинского, узнай он о фельетоне! Но ничего поделать уже нельзя. Статья печатается и завтра появится в газете. И, может быть, первым прочитает ее директор типографии, который так душевно обошелся с Алешей, и пожалеет директор, что не принял Алешу в наборный цех.
Но мечты останутся мечтами. Не писал Алеша статей, и поэтому не работать ему в редакции. Стихи — другое дело. Впрочем, можно попробовать сочинить статейку. Для себя. В газету нести не следует.
В воскресенье утром Тамара ушла на базар, а отец с сыном принялись варить гороховый суп. Купил все же концентратов Алеша и, кроме того, достал скотских костей. Мяса на костях, конечно, не было, но варево покрывалось желтыми блестками.
Помешав суп большой деревянной ложкой, отец удовлетворенно крякнул и полез в карман за кисетом. Первая цигарка за все утро. Самосад в мешочке над кроватью кончался, и отец растягивал его, как мог. Курил он сейчас почти одну бумагу и докуривался до того, что неизменно обжигал губы.
Левая рука у отца, что была покалечена в первую мировую войну, плохо слушалась, когда он крутил цигарку. И Алеше хотелось помочь отцу, но отец ни за что не согласился бы на это. Он все делал сам.
Момент для того, чтобы начать разговор, был подходящий. Отец никуда не собирался, и когда он задымил самосадом и сизые струйки потянулись к приоткрытой дверце печки, Алеша спросил:
— Папа, ты считаешь, что правильно жил?
Вопрос удивил отца. Он серьезно посмотрел на Алешу, задумался и произнес негромко:
— Как тебе сказать… В целом — правильно, но ошибки конечно, были. И даже значительные.
— А почему ты снова не вступишь в партию?
По морщинистому лицу отца пробежали тени. Он нахмурился, глядя в огонь, сказал глухо:
— Меня не примут.
— А если приняли бы, пошел? Вступил бы в партию? — допытывался Алеша.
— Нет, не пошел бы, — твердо проговорил отец.
— Но почему?
— Ты хочешь знать правду?
— Да, только правду, папа. Для меня это очень важно. Ты сам не представляешь, как важно!
На этот раз отец бросил окурок в огонь прежде времени. И круто повернулся к Алеше:
— Тогда слушай. Я до сих пор считаю, что не нужно было выселять столько людей с родной земли. И середняков кое-где прихватили.
— Но ведь это были перегибы, — возразил Алеша.
— Да, перегибы.
— А партия?
— Партия осудила их. Это я понимаю. А вступать в партию я уже стар.
— Да что ты, папа! Вступают и постарше тебя.
Отец рассмеялся, запустил руку в Алешины вихры:
— Нет, сынок. Потом ведь упрекнут, что смалодушничал, когда кулаку бой давали.
— А если я уеду в Сибирь?
— Что? Надоело здесь? Но почему в Сибирь?
— Просто так. Нравится мне там.
— Жить-то где станешь? Сразу и решил?
— Да.
— А ты подумай хорошенько.
— Не хочешь, чтоб я ехал? — Алеша потупил взгляд. — Если что-то будет не так, вернусь.
Отец вздохнул:
— Смотри. А как насчет учебы? Что-нибудь думаешь?
— Буду учиться, папа. Работать и учиться, — горячо ответил Алеша. И почувствовал жалость к отцу и Тамаре, которых скоро покинет.
5
Майор из военкомата прислал записку, в которой сообщал, что есть должность кладовщика на овощном складе. Зарплата невелика, но торг имеет столовую.
Как ни заманчиво было это предложение, оно не поколебало Алешиного решения. Он ждал лишь пенсии за очередной месяц, и когда ее получил, пошел сниматься с военного учета.
— А, гвардии лейтенант, — радостно встретил его майор. — Присаживайся, голубчик. Местечко я тебе отыскал отменное. Валяй в торг. Я позвоню.
Алеша рассказал, зачем он явился в военкомат. Майор поморщился:
— Чего это ты придумал! Фантазируешь и так далее. Сибирь… Война-то ведь вот-вот кончится. И заживем, как положено. Да разве можно равнять такой город с Сибирью! Тут тебе и фрукты, и теплынь такая, а что в Сибири? Снега да морозы. Может, там девушка у тебя? Или кто еще?
— Никого нет.
— Так чего ты мне, голубчик, голову морочишь. Иди в торг, — майор весело подмигнул.
— Но я уезжаю. В город Ачинск.
Майор не сказал больше ни слова. Взял военный билет, сходил куда-то, пожал Алеше на прощание руку и принялся перебирать папки с личными делами. Видно, сердился он, что понапрасну старался, подыскивая Алеше подходящее место.
Ахмет вышел на стук растерянный, вялый. Лобастая голова ушла в плечи. Только в глазах метался неистребимый огонь.
— Сплю плохо. С той самой ночи, — признался он. — Все думаю. И это ты виноват, ты! Разбередил душу. Работать хочу, очень хочу… Да ты не стой у порога — проходи.
— Тебе нужно в больницу, — сказал Алеша, стараясь не глядеть на друга.
— Я умру, когда зацветет сирень. Мне всегда трудно в это время. Но прежде я напишу картину. Я успею ее написать! И еще вот такой замысел. Представь себе воду. Ведро воды. Закопченное, ржавое. И небритую щеку человека, который умывается. Лица не видно. Лишь в воде, в масляных кругах — огромные глаза.
«Ты ничего уже не напишешь, Ахмет. Тебя не хватит на эту картину», — горько думал Алеша.
— Но они не возьмут у меня эту картину, — продолжал Ахмет. — Я подарю ее школе для пионерской комнаты. Ребята повесят ее рядом с барабаном и горном. Это было бы прекрасно!.. — продолжал Ахмет.
— Хватит, Ахмет! — оборвал его Алеша.
— Извини, друг, — он сразу сник и заговорил совершенно другим тоном — просто и деловито. — Вчера вечером видел Ларису Федоровну. Сказал о тебе. Она просила зайти. Нашу школу перевели в другое помещение, а то здание занимает госпиталь. Если хочешь, пойдем к Ларисе Федоровне. Тут недалеко.
Алеша уважал Ларису Федоровну за ее острый ум и справедливость. Да, тогда он много читал, твердо уверенный, что это очень нужно ему, что это больше пригодится в жизни, чем тригонометрические функции Ивана Сидоровича.
Однако все эта годы совсем не заглядывал в книги и не писал стихов. Может, прав был тот, кто сказал: когда гремят пушки, музы молчат? А сурковская «Землянка» и симоновское «Жди меня» — те самые исключения, которые подтверждают правило. Правда, еще как-то живут подписями к карикатурам бесхитростные раешники.
Кроме того, было у Алеши чувство, что он шел к Ларисе Федоровне на экзамен. Прожито нелегкое время, постигнуто многое. И Алеша знал урок, он готов был ответить на все вопросы.
Когда Алеша вошел в вестибюль школы, ему вдруг показалось, что не было ни выпускного вечера, ни боя за Миусом, ни госпиталей. Словно все пригрезилось Алеше в короткую минуту забытья. Пусть это была совсем другая школа и учились в ней другие ребята.
— Ну как? — спросил он у Ахмета, когда они по широкой лестнице поднялись на второй этаж.
— Нормально, — ответил тот.
Очевидно, Ахмет бывал здесь не раз. Его ничто не трогало так, как Алешу. А тому казалось: только поверни в коридор направо — и окажешься среди ребят из десятого «А». Замашет здоровенными руками, утихомиривая класс, учком Костя. Высунет в открытую дверь облупленный нос Ванек. Забасят, рассказывая о своих мужских победах, «женихи». А сторонкой, солидно позванивая осоавиахимовскими значками, пройдет Петер из десятого «Б», знающий всех иностранных деятелей. Тот самый Петер, по которому тайно вздыхали многие девчонки в школе. Но он, всегда мечтавший о ратном подвиге, не удостаивал их своей дружбой. Он считал, что прежде всего — школьная работа.
Теперь Петер у немцев. И Алеше не хотелось говорить об этом Ларисе Федоровне.
В учительской никого не оказалось, и Алеша с Ахметом в коридоре стали ждать перемены. Алеша, как прежде, с маху сел на подоконник. В ноздри ударило пылью, и он едва удержался, чтобы не чихнуть. И рассмеялся. Как все-таки здесь приятно!
— А ты помнишь, Ахмет, как расписали меня в стенгазете?
— Ну как же! Было дело, воспитывали. И наши труды не пропали даром. Мы имеем в лице товарища Колобова гражданина, живущего самыми передовыми идеями нашего века. Ура товарищу Колобову!
— Чего смеешься, Ахмет? Ты думаешь, эти будут лучше нас? — Алеша кивнул головой в сторону классных комнат. — Не знаю.
— Ты бы согласился поучиться сейчас, скажем, снова в десятом? — спросил Ахмет.
— Конечно. Но не более одного-двух уроков. Мне противопоказано умственное напряжение. Врачи говорят, что после контузии нельзя допускать, чтобы появлялись новые извилины.
— И ты точно исполняешь эти советы.
— Не язви, Ахмет. Я ведь пришел к тебе проститься. Еду в Сибирь. Узнал адрес у Ваньковых родителей и еду. Ачинск — маленький городишко под Красноярском.
— Брось пороть чепуху! Если уж ехать, то почему к Ваньку? Сам говоришь, что вы не очень дружили. А, понимаю… Уж не к Вере ли ты?
— Нет. Чего теперь к ней! Не обязательно ведь жить мне в Ачинске. Я родился в деревне, люблю деревню…
— А что ты станешь там делать? — скривил губы Ахмет.
— Что другие, то и я. Посажу огород, заведу свинью, куриц, — шутя ответил Алеша.
— Ну тогда прощай! Я приеду к тебе, в твои свинарники и курятники, чтобы сказать тебе еще одно пламенное «ура». Как говорится, жди привета, как соловей лета.
Тишину потревожило стрекотанье звонка. Распахнулись двери классных комнат — и в коридор высыпала мелюзга. На втором этаже учились младшие классы, а в них не преподавала Лариса Федоровна.
— Пойдем к лестнице, — потянул Ахмет Алешу.
Она увидела их, обрадовалась. Каблучки ее старых, довоенных туфель торопливо застучали по лестничным маршам. Под мышкой она держала классный журнал. Подошла и протянула Алеше руку:
— Вон вы какой! Рослый, плечистый.
У нее было худое лицо, и на нем еще ярче горели крупные, как сливы, глаза. Лариса Федоровна была одета строго. На ней ладно сидел темно-синий бостоновый костюм с маленькими карманчиками. Она носила его и прежде.
— Вы долго меня ждали? — заботливо спросила она, приглашая их в учительскую. — Вы подошли в самый раз. У меня сейчас нет урока, и мы наговоримся вдоволь.
Они прошли в учительскую, Лариса Федоровна и Алеша сели на диван, обтянутый рыжим дерматином. Когда-то диван был мягким, а теперь он при малейшем движении скрежетал и толкался стальными пружинами.
— Разошлись, разъехались вы. У вас теперь новые друзья, — заговорила Лариса Федоровна. — Но школу не забудете никогда. Верно же? И я не забуду ваш класс, Алеша. Это был первый мой выпуск. Школьная академия… А война надвигалась… Вы ведь моложе всех из класса?
— Да.
— Вот видите, а уже отвоевались… Все так выросли, вытянулись. Вы не встречали Владу? Она выше меня на целую голову. Учится в университете. Между прочим, она замужем…
— Да что вы, Лариса Федоровна! А как же Костя? А Илья? — искренне удивился Алеша. — За кого она вышла?
— Я даже толком не знаю, кто он. Кажется, какой-то деятель кино.
— Осветитель, — сказал Ахмет голосом, в котором явно чувствовалось презрение. — Трепач. Меня знакомили с ним на студии.
— Почему же ты молчал? — повернулся к Ахмету Алеша.
— А ты не спрашивал.
Лариса Федоровна неопределенно пожала плечами:
— Влада — умная девушка. Я не думаю, чтоб она вышла замуж за…
Лариса Федоровна хотела повторить брошенное Ахметом слово: трепач. Но споткнулась.
В это время в учительскую как-то боком, волоча короткую ногу, вошел математик Иван Сидорович. Он приметил Алешу и поклонился. Он очень постарел. Взгляд его погас, как костер под проливным дождем. Не осталось ни горящего уголька, ни искорки.
— В один год потерял двух сыновей, — шепнула Лариса Федоровна.
Иван Сидорович проковылял в другой угол учительской и долго с шумом сморкался в платок. Покрасневший лоб его собирался в морщины, поблескивал потом. Он смотрел в потолок, словно отыскивая там что-то крайне необходимое для себя.
— И никакого ума у Влады нет, если она так… — вернулся Алеша к прежнему разговору.
— Ты не слышал об Илье Туманове?.. Погиб он где-то под Яссами, — мрачно проговорила Лариса Федоровна.
— Илья?.. Ой как жалко его!.. Я видел Илью на фронте, — сквозь стиснутые зубы сказал Алеша. — Он был смелым командиром. Он…
— Вы с его сестренкой Алей поговорите. Она в десятом «А» у нас. Расскажите ей об этой встрече. Там что-то сложное у нее с мамой. В общем, я вас сведу с Алей. Если вы не торопитесь, подождите до следующей перемены, — встала она на звонок. В ее голосе была просьба. Лариса Федоровна, видно, собиралась еще о чем-то поговорить с Алешей.
В школе стих гвалт. Учителя ушли на уроки. Лишь Иван Сидорович все сидел в углу, думая о своем. Алеша решил заговорить с ним. Но Иван Сидорович начал разговор первым:
— Неужели не может быть иного решения споров? Вы с палочкой, Колобов?
— Врачи обещают, что скоро брошу.
— Да, да, Колобов.
Алеша, а за ним и Ахмет, подошли к Ивану Сидоровичу, который тяжело запыхтел, руками подтягивая больную ногу. Поморщил лоб, словно что-то вспоминая.
— По своей наивности, я считал прежде, что все мои ученики должны стать математиками, — сказал он. — Кроме математики, я признавал лишь физику и химию. Этим и руководствовался, когда допекал вас.
— А мы не обижались, — искренне признался Ахмет.
— Я вам ставил когда-нибудь «неуд», Колобов?
— Было такое, — усмехнулся Алеша.
— Я беру его обратно, — на полном серьезе проговорил Иван Сидорович. — Вы хорошо учились у меня. Но часто делали прогулы. И я обижался на вас, иногда просто придирался к вам.
— Да что вы, Иван Сидорович! — смущенно сказал Алеша.
— У меня их было двое, — математик зашмыгал носом, и из его глаз, спрятанных под выпуклыми надбровьями, потекли слезы. Он не утирал их.
На новой перемене Лариса Федоровна привела сестру Ильи Туманова. Такая же, как брат, долговязая, с рыжими веснушками на лице, Аля подала руку Алеше и робко сказала:
— Я знаю вас. Вы вместе с Илюшей ездили в военное училище. В Ташкент. А я приходила на вокзал провожать. Так вы его видели на фронте?
— Да, я неожиданно попал на его батарею. Точнее…
— Послушайте, — торопливо забормотала она. — Мы живем совсем недалеко. Да вы, наверное, знаете — за площадью Коминтерна… Вы приходите к нам. Надо, чтобы об этом узнала мама. Только не проговоритесь, что Илюша убит…
— Но я уезжаю. Совсем уезжаю. В Сибирь.
— Как, уезжаете? — опешила Лариса Федоровна. — Вы ведь ничего не сказали о себе. Что собираетесь делать? Вам нужно идти в театр, Алеша. Вы так играли!
Алеше вспомнилась первая репетиция «Медведя». Вернее, читка, когда только что распределили роли. Из-за какой-то вздорной Веры так обидел прекрасного человека. Но что толку из позднего раскаяния!
— Конечно, я посмотрю. Если бы подучиться…
— Непременно поступайте в театральный институт! — воскликнула Лариса Федоровна. — Вы — фронтовик, вас примут.
А немного погодя Алеша подходил к дому Тумановых. Аля что-то тараторила про свой класс, про школьную программу. Но Алеша плохо ее слушал.
У распахнутой калитки Аля еще раз предупредила:
— О смерти Илюши — ни слова. А остальное можете рассказывать, как было. Мама не переживет, если узнает правду. Я скрыла от нее похоронную.
— Я понял. Так и будет, — пообещал Алеша.
Они вытерли ноги о веник, брошенный у порога, и вошли в дом. И столкнулись в прихожей с пожилой, болезненной женщиной в рваном ситцевом халате. Она лишь взглянула на вошедших, как из ее горла вырвался смятенный крик:
— Вы от Илюши? — и замерла в ожидании.
— Да, я от него, — как можно приветливее сказал Алеша. — Только я давно его видел. И именно в тот день меня ранило…
— Он что-то не пишет нам. Боюсь, что его тоже ранило. Ведь если бы убили, то пришла бы похоронная… Да вы проходите в столовую. Как это благородно с вашей стороны, что зашли. Я уж совсем истомилась… А ведь ранят в руку, тогда как он напишет? Или после контузии потерял память. Но это проходит. Аля, дай стул молодому человеку. Так где же вы видели Илюшу?
Алеша подробно рассказал о встрече с Ильей. Мать морщила сухие губы в довольной улыбке да покачивала головой. Она как бы сразу помолодела, набралась сил. Она подвинула свой стул поближе к Алеше и, тревожась за сына, спросила:
— Значит, он был со своей батареей дальше от немцев, чем вы?
— Конечно, дальше.
Это ее устраивало. Глаза у нее светлели, наливались надеждой. Алеше трудно было говорить ей об Илье, скрывая от матери самое ужасное — его смерть. И, сославшись на неотложные дела, Алеша распрощался с Тумановыми.
Теперь как можно скорее из этого города! Здесь встречи с друзьями и их родными не очень радовали. А в Сибири он начнет новую жизнь. Он с головой уйдет в работу, он непременно разыщет Наташу.
И уже назавтра товарный поезд, прозванный «пятьсот веселым», вез Алешу в Сибирь. Поезд не спешил. Паровоз подолгу спокойно попыхивал белым дымком на остановках, словно размышляя, идти ему дальше или нет.
6
Ачинск оказался небольшим, ужасно грязным и милым городком. Он стоял на высоком берегу Чулыма, многоводной сибирской реки, которая сейчас, в апреле, еще лежала под толстым слоем льда и снега.
Городок строился давно, и большинство его одноэтажных домиков осело, по самые окна ушло в землю. Заборы подернулись мхом, тротуары из плах попрели.
Ачинск был сплошь деревянный, лишь в центре, на крохотной площадке, столпилось несколько кирпичных зданий в два этажа. На самом берегу реки возвышалось здание городского театра. Оно пустовало с начала войны. В какой-то сотне метров от театра — редакция районной газеты, а чуть подальше — аптека и городская баня.
Зато на окраине Ачинска краснели кирпичом просторные казармы, прикрытые со стороны реки молодой березовой рощей. Казармы построили еще до первой мировой войны, и ачинцы считали их достопримечательностью города.
Городок покорил Алешу тишиной. Было очень уютно на его узких, коротких улицах. Лишь изредка встречались прохожие, да иногда — подводы. Все здесь казалось созданным для отдыха и раздумий.
С поезда Алеша, прихрамывая и опираясь на палку, направился к центру. Деревянный чемодан не был тяжел. В нем лежал армейский вещмешок да полотенце, да кусок хлеба, черствый, как камень. Конечно, Алеша свободно мог обойтись без чемодана, но он все-таки надеялся со временем что-то купить из верхней одежды и белья. Так будет хоть куда положить.
Из-за реки порывами налетал знобкий ветер. И Алеша дрожал в старенькой, посеченной осколками шинели. Своя шинель у Алеши осталась где-то на фронте, а эту предложили ему в госпитале. За неимением ничего лучшего пришлось взять. Тамара сделала однажды попытку затянуть нитками многочисленные дыры на ней. Но просидела за починкой полдня, потратила тюрячок ниток и оставила свою затею. Дыр вроде бы и не убавилось, зато шинель теперь топорщилась во многих местах, стояла на Алеше коробом.
Алеша сошел с поезда и оказался на крохотной привокзальной площади, огороженной штакетником. Ему предстояло здесь как-то устраивать свою жизнь, в этом городе. Ванек, разумеется, когда-то был дружком, и он примет Алешу на ночь-на две. Алеша понимал, что ему в общем-то будет рада и Вера.
Алеше пришло на память, как ходил он к родителям Ванька за адресом. Он сказал им, что хочет написать Ваньку. Ваньков отец, хоть и узнал Алешу, но едко заметил:
— Говоришь, друзьями были? А он теперь-то совсем не такой. Он, как картинка. Суконный китель у него, диагоналевые брюки. Да что ты! Так теперь редко кто одетый. А у Верочки-то шерстяные платья. И фетровые боты, и шаль пуховую он ей справил…
Если бы знал Ваньков отец, как Алеша смеялся в душе над этим богатством!
Прежде чем идти по адресу, Алеша завернул на базар за табаком. У крытого ряда прилавков было немноголюдно. Бабы продавали табак да семечки. Возле них вилось не более десятка базарных завсегдатаев. Их не трудно определить по тому, с какой фамильярностью относились они к торговкам, как не спеша беседовали между собой.
— Не здешний? — спросил у Алеши один из них, в рваном пиджаке и грудью нараспашку. И как только терпел человек такой холодище!
— Приезжий, — ответил Алеша. — Вот смотрю.
— Смотри. А мы всех в городе знаем.
— Ты в гости али насовсем?
— В гости. — улыбнулся Алеша. — А понравится, так и насовсем.
— В Ачинске-то первый раз? Нравится? Хороший у нас город, даже пиво можно достать, — сказал мужчина в рваном пиджаке. — А меня зовут Самара, — и он затянул густым басом. — Я из Самары сюда прие-е-ехал… Тут все знают, кто такой Самара! И если хочешь пива, то я куплю. Мой котелок, твои деньги.
И тут Алеша увидел, что у Самары сзади на ремешке висит закопченный котелок. Самара стукнул по нему ногтями, и котелок глухо звякнул, словно жалуясь на хозяина.
— Мы никого не обманываем. О-го-го! — забасил Самара. — А летом, если хочешь, приходи на лодочную станцию. Сын у меня там. Лодок на станции давно нет, но есть Венка, он научит тебя плавать без лодки. А теперь идем за пивом. Мы возьмем только вот этого, — он кивнул на плюгавого мужичонку в дождевике. — Жучок, давай с нами!
Алеша был так стремительно атакован Самарой, что и не подумал сопротивляться. А в общем-то пива ему хотелось Что ж, придется понести некоторые расходы.
Жучок был обрадован таким поворотом дела. Шагал вровень с Алешей и нашептывал:
— Самара он — голова. Бухгалтером работал, вот так. Но съели его шалавы. Ты еще, кореш, поближе узнаешь Самару, так удивишься. У него денег куры не клевали На курорты ездил. И сейчас его отмой да побрей — и он антиллигентом будет.
В ларьке стоял грохот. Ларек трещал под свирепым напором толпы. Над орущими, потными головами проплывали бидоны и котелки, графины и кувшины.
— Давай деньги. Мы это оформим сейчас, — сказал Самара, отвязывая свой котелок.
Жучок удовлетворенно чесал за ухом:
— Что ты! Да чтобы он не достал! Да не было еще такого случая.
— Самара желает пива, — раздалось в самой гуще толпы. Неведомо как, но бывший бухгалтер уже трепыхался там, как щука в садке.
— Самару пустите, шалавы! — крикнул Жучок. И действительно, котелок Самары с тридцаткой в момент достиг прилавка и оказался в руках у продавца. А через считанные минуты он торжественно совершал обратный путь.
— Не забудь, голуба, что мы повторяем, — пробасил Самара. — О-о-о! Люди гибнут за металл!
По лукавому блеску выцветших глаз Алеша понял, что Самара напускает на себя дурость. На самом деле, он не так глуп. Спился, стал алкоголиком, и теперь ему проще просить милостыню, работая под дурачка.
Алеша первым напился пива, передал Самаре котелок, спросил дорогу и пошел к Ваньку. Солнце уже цеплялось за крыши домов, и Алеша торопился найти нужную улицу и дом, пока светло.
Ванек жил неподалеку от городского центра, на берегу реки, в старинном, просторном доме. Когда Алеша взбежал на высокое крыльцо и постучал, в сенях кто-то зашаркал ногами. Алеша услышал хорошо знакомый ему Верин голос:
— Кто там? Ты, Миша?
«Какой еще Миша?» — пронеслось в голове у Алеши. Кто бы это мог быть? Алеша совсем позабыл, что настоящее имя Ванька — Михаил.
— Это я, Вера, Колобов. Открой, пожалуйста.
Вера радостно ойкнула, отодвинула засов и широко распахнула дверь. И обвила Алешину шею, поцеловала его в щеку. От Веры пахло одеколоном, а еще чем-то домашним.
— Лешка, да как же ты, а? — смеясь, она разглядывала и тащила его в дом. — А я боюсь одна, все время сижу на запоре.
«Наверное, много богатства, потому и боишься», — подумал Алеша.
Он снял шинель и оставил чемодан в прихожей. Вера позвала его в столовую. Алеша отодвинул тяжелую портьеру из плотной лимонного цвета ткани и оказался в большой комнате, стены которой были увешаны вышивками в рамках и фотографиями. Посреди комнаты стоял круглый стол на одной толстой ноге, накрытый скатертью, вышитой петушками. А за ним, в углу, был комод с большим зеркалом и слониками наверху. Рядом с комодом посвечивал дерматином диван, у которого на высокой спинке белела узкая льняная дорожка.
— Вот здесь мы и живем, — не без гордости сказала Вера. — А там у нас спальня, — она показала на другую дверь, тоже прикрытую портьерой. — Ты можешь курить в столовой. Миша много курит, и я привыкла.
Она была красивее, статнее, чем прежде. Вера закручивала косы в толстый жгут на затылке, и это придавало ей большее очарование. Лишь голос у Веры остался таким, как был: мягким, приятным.
Вера, назвав мужа по имени, отвела от Алеши глаза. Она, очевидно, помнила, что сказала тогда на выпускном вечере, и теперь стыдилась своих слов или своего теперешнего положения Ваньковой жены. А ведь как уверяла, что не выйдет за такого!
Эх, Вера, Вера, как же это случилось? Неужели на тряпки Ваньковы позарилась? Но ведь ты была такая чистая. Никогда не нравился тебе Ванек… Ну, да господь с тобой.
— Проездом или как? — снова удивленно спросила она.
— Нет. Посмотрел вот и понравился мне ваш городок. Маленький, тихий. Если найду работу по душе, здесь останусь.
— Я вижу, ты ранен. Будешь ходить с палочкой?
— Зачем? Скоро брошу. А Ванек-то так и не был ка фронте?
— Его не пускают. Он просился.
«Врешь ты все, Вера. Или Ванек тебе врет», — подумалось Алеше.
— Теперь уж не попадет на фронт. Война вот-вот кончится, — сказал он.
— Ты полагаешь?
— Конечно.
— А кого в Алма-Ате видел? Ты ведь оттуда? — спросила она, лишь мельком взглянув на Алешу.
— Ларису Федоровну, Ивана Сидоровича, Ахмета…
— Я часто вспоминаю школу. Какие все были замечательные! А «Медведь»? Как мы с тобой играли! Как тебе аплодировали!.. Я здесь тоже играю. У нас кружок любителей. Начинаем работать в городском театре. Это так здорово! И тебе не отбиться от Агнии Семеновны. Она у нас режиссер, и я рассказывала ей о тебе. По-моему, даже вчера, — возбужденно говорила она. — Видишь, как!
Алеша закурил. А Вера принялась собирать на стол. Вот-вот должен подойти муж, он всегда является в одно время, когда нет вечерних политзанятий. Часто приходит с друзьями. Играют в карты и выпивают, а то срежутся в шахматы или всю ночь стучат в домино.
Вера чувствовала себя виноватой. Она по-прежнему прятала глаза. Что же, в сущности, сделала она плохого, чтобы стыдиться? Ничего. Но весь смущенный вид ее как бы говорил: ты думал обо мне лучше, а я вот какая.
— И что же вы готовите со своей Агнией Семеновной? — спросил Алеша, разгоняя рукой облако дыма.
— Что готовим? — остановилась она в дверном проеме.
— Сейчас готовим «Лес». И Аркашку играет у нас профессиональный актер Демидов. Старичок он, а ты бы посмотрел, как играет! Мы со смеху умираем, когда он репетирует. Это надо видеть!..
— А Ванек? Не артист? Не ходит в ваш кружок?
— Миша, — поправила она. — Нет. Он считает, что это и для меня не солидно. А я не хочу быть солидной!
— Да, да, — покачал головой Алеша.
Вера решительно шагнула к столу:
— Ты не веришь мне? Не веришь?
— Почему же? Верю.
Алеша усмехнулся. Перед ним стояла прежняя Вера та самая, в которую, кажется, он был влюблен, но которая об этом до сих пор не знала. А теперь уже и не к чему ей знать.
Ванек увидел в прихожей чемодан и шинель. Спросил у Веры, кто же приехал. А Вера, поймав его за локти, не пускала в столовую:
— Отгадай!
— Ну, Верусик! Ну нехорошо так, — жалобно тянул Ванек. — Пусти!..
Алеша не мог более слушать эту игру — она его раздражала. Отодвинул портьеру и вышел навстречу.
— Лешка! — радостно кинулся к нему Ванек и стал тискать, будто пробуя Алешу на прочность. — Вот никогда б не подумал! А у меня с утра нос чесался И никак не мог сообразить, к чему бы это. Оно вон, оказывается, к чему!.. Ты хочешь есть? Ну давай-ка нам чего-нибудь Верусик.
— Сколько раз я просила тебя: не зови меня по-собачьи. Тузик, Верусик. Тоже мне, имя нашел! — возмутилась Вера.
Ванек был весь чистенький, отутюженный. На его худощавой фигуре хорошо сидел китель. Движения были спокойные и уверенные, чего прежде не замечал Алеша. Оно и понятно: как-никак капитан.
Вера достала из шкафа бутылку водки, и они сели ужинать. Закусывали кусками сала, мелко нарезанными, и квашеной, в вилках, капустой. Затем Вера поставила на стол тарелки с борщом, а в борще было мясо — много мяса.
— Ешь, Леша, не стесняйся. И рассказывай, как живешь, — Ванек вскинул свой вздернутый нос.
— Ничего живу. Купил вот билет до Красноярска, но сошел здесь.
— Ачинск тебе нравится?
— А что? Я с удовольствием побродил по нему.
— Уже успел побродить?.. Хорошо, что ты к нам приехал, в Сибирь. Если хочешь, я тебя на работу устрою. У тебя никакой специальности нету?
— Ты ж сам знаешь. Воевал — и только.
— Это несколько хужее, — задумчиво произнес Ванек. — Но все равно я устрою тебя на подходящую работенку. Надо, чтоб поближе к продуктам. А одежонку в военторге достанем. У меня тут есть блат. Не пропадем. Завтра потолкуем кое с кем, и квартиру найдем. А ты где ходил?
— Был на рынке, да и так прошелся по улицам. Между прочим познакомился с одним типом. И даже с двумя. Ты Самару знаешь?
— Пьяницу? Его и Вера знает, — сказал Ванек.
— Он сидел за какие-то махинации. Тут и остался, и сын к нему приехал сюда. Спился Самара, — живо проговорила Вера.
Они засиделись допоздна. Уже мигнуло и погасло электричество, где-то неподалеку второй раз запел петух. А они сидели в столовой, вспоминая одноклассников и школьные годы.
Перед утром, зарывшись головой в жаркую собачью доху, Алеша уснул и спал чуть ли не до самого обеда. Чего и говорить, измучился в дороге. Он спал бы и еще, но его разбудила Вера:
— Если хочешь, сходим на репетицию. Ты увидишь наших любителей. Я вчера рассказывала о тебе, и вот ты явишься сам. С Агнией Семеновной познакомлю. И с Демидовым. Он в девятьсот втором году гастролировал в Алма-Ате. Подумать только! Такой милый седой старичок.
Вера напоила Алешу чаем с рыбным пирогом, взглянула на ходики, ахнула:
— Опаздываем. Ты надень фуфайку. Мужева.
Все же это очень странно: у Веры муж. И подумать только, кто он! Ванек. Нет, она не любит его. Не потому, что Ванька нельзя полюбить, но он совсем не для Веры. Они разные.
Репетиция еще не начиналась. Ждали Веру и какого-то железнодорожника на роль Несчастливцева. С этим железнодорожником у них было много мороки. Он постоянно задерживался на работе.
Агния Семеновна, невысокая женщина в годах, но до сих пор играющая героинь, сидела посреди репетиционного голубого зала на облезлой козетке. Она недобро покосилась в сторону вошедшей Веры:
— А вы-то? Ведь вы нигде не работаете, Вера…
Любители молча слушали, как Агния Семеновна обижалась, как она обещала им (в который уж раз!) бросить свое режиссерство. Но вот выговорилась, и Вера, не поднимая головы, сказала:
— Ко мне, то есть к нам… Ну вот он приехал, Алеша Колобов. Да я вчера… Вы помните, Агния Семеновна?
Алеша слегка поклонился. И к нему подошел кругленький старичок в очках. Он эффектно протянул Алеше дряблую руку:
— Очень рад вашему приезду. Только возвышенные души способны тонко чувствовать искусство. Демидов, Александр Георгиевич… — и расшаркался.
Алеша уже знал от Веры, что Демидов близко к сердцу принимает и успехи, и провалы любительского кружка. И это объяснялось не только его отношением к искусству. Демидову платили какие-то деньги со спектаклей.
— Вы молоды, юноша. Как я завидую вам! — Александр Георгиевич осклабился. — А это наш руководитель, наша Агния Семеновна.
— Вы Несчастливцева не играли? — спросила негромко Агния Семеновна. — Вы хромаете. Но это ничего. А если все-таки попробуем?
— Я ведь еще не знаю, найду ли в Ачинске работу. Может, придется ехать куда-нибудь дальше, — растерянно проговорил Алеша.
От окна отделилась тоненькая девушка. Склонив голову набок, она внимательно посмотрела на Алешу.
— Я — секретарь горкома комсомола. Мы поможем вам.
— Ой, да я совсем ведь забыла про тебя! — воскликнула Вера. — Конечно, ты найдешь ему работу, Соня.
У Агнии Семеновны подобрели, радужно засветились зеленые глаза. Она встала с козетки и, обращаясь к Александру Георгиевичу, сказала:
— Вот кого мне нужно для мопассановского Селестина!
— Да! Фактура, амплуа любовника… Представляю. А какой вы будете Франсуазой! — подхватил Александр Георгиевич.
— Ну так как? Попробуем? — спросила у Алеши Агния Семеновна.
— В этой роли я видел Мамонта Дальского. Ах, как он играл Несчастливцева! Это был фейерверк! Публика визжала, заливаясь горькими слезами. У вас тоже должно получиться, — сказал Александр Георгиевич.
Алеша боялся обмануть ожидания кружковцев. Ведь, кроме как в «Медведе», он не играл нигде. И надо ж было Вере так прославить его на весь Ачинск!
— Что ж, — смущенно сказал Алеша. — Давайте попробуем.
— Не боги горшки обжигают, — успокоила Агния Семеновна.
Алеше вспомнилась кенжебаевская пятая батарея, а с нею — весь ад той далекой ночи под Луганском. И он снова подумал:
«Бессмертны только боги. А люди, создавшие их, умирают».
7
На попутной эмтеэсовской машине Алеша ехал в подтаежное село. Дорога была разбита; колеса то и дело пробуксовывали в рытвинах, и машина натужно и дико выла, как попавшая в капкан волчица.
Шофер, совсем молодой, вихрастый, на удивление словоохотливый парень, говорил:
— Что тракторы? Честное слово даю, в мирное время ни один из них не сошел бы с места. Они никак не должны ходить, а ходят. И плуг за собою водят. Вот тут и разберись, какое оно есть железо. Вот моя коломбина. Она час чихает, когда ее заводишь. И пар из нее валит, и всю ее колотит, бедняжку, будто лихорадкой бьет. А поглажу ее ласково, поколдую над ней и уговорю. Нельзя ей простаивать, когда в колхозах ждут то да се, да другое. Так и тракторы. И еще они споро ходят, когда им флажок привесят. Сурьезно! Это не раз замечалось…
Алеша плохо слушал шофера. Думал он о том, что наконец-то определился. Чего хотел, того и достиг.
Он ходил в горком комсомола. Соня узнала об Алеше всю подноготную. Что там постановка «Медведя»! Алеша рассказал ей о фронте, о госпитале, и еще о многом другом. Она бледнела и покусывала алые губы от его рассказа. И слезы навертывались на ее небольшие темные глаза. Но как комсомольскому секретарю ей не полагалось проявлять малодушие, и она подбадривала себя восклицаниями:
— Вы правильно поступали! Так и положено на фронте!
Чего она понимала, эта былинка! И кто понимал вообще, что положено и что не положено, когда его молотили бомбы, когда в упор стреляли по нему фашистские танки!
Соня звонила по организациям. В промысловую артель, где катали валенки, нужен был массовик. Когда Соня сказала об этом, Алеша недоуменно, с улыбкой спросил:
— Что же я буду делать?
— Там объяснят. Газеты читать пимокатам, «Боевой листок» выпускать.
— И все?
— Ты против? Тебе не нравится? Так давай еще поищем, — сдалась Соня и принялась снова звонить.
Алеша хотел согласиться идти к пимокатам, так как ничего более подходящего для него не находилось. Но Соня решилась на последнее: поговорила по телефону с редактором газеты. Может, в редакции знают, куда пристроить комсомольца с десятилеткой, фронтовика.
— Он просит зайти, — без надежды сказала Соня, устало вешая трубку на рычаг телефона. — Авось, что-нибудь и посоветует. Не огорчайтесь, Алеша, будет вам работа.
Разговор в редакции был коротким. Редактор Василий Фокич, краснощекий и кривоногий, стоя у стола, разглядывал Алешу.
— Статей не писал? — спросил он.
— Не доводилось.
Василий Фокич повел носом:
— Завтра попробуем. Справишься с заданием, возьмем в литсотрудники.
Алеша прилетел к Ваньку. Но тот не высказал восторга.
— Не ходи. Я с директором военторга договорился. Будешь экспедитором.
— Но если человеку не нравится торговля? — загорячилась Вера.
— Дураку она может не нравиться, — авторитетно рассудил Ванек. — А в газете что? Бумагу грызть станешь?
— Как-нибудь проживу, — неуверенно сказал Алеша.
На другой день с утра он был в редакции. Василий Фокич долго перебирал бумаги на своем столе, часть их откладывал в сторону. И когда отложенные листки образовали стопку, редактор взвесил ее на ладони и подал Алеше:
— Письма фронтовиков. Сделаешь обзор. Садись и пиши, — он показал на придвинутый к его столу пристолик.
Алеша что-то пробормотал. Не то в знак согласия, не то поблагодарил Василия Фокича. И тут же подумал, что напрасно затеял все это. С треском провалится сейчас, и Ванек будет смеяться. Лучше — в массовики. Пимокаты проще редактора.
Заметив на Алешином лице смятение, Василий Фокич засмеялся и похлопал Алешу по плечу:
— Выхватывай яркие места. Нажимай на лирику и на героизм. Ты же сам фронтовик, знаешь, что к чему.
Почти до обеда читал Алеша письма с фронта. И чего тут только не было! Бойцы писали о своих друзьях из Ачинска, об их подвигах. Писали пламенные приветы односельчанам, обещали храбро воевать и вернуться домой с победой и орденами. Были в треугольных солдатских конвертах и стихи, простые окопные стихи, которые не искали признания. Но все-таки солдаты хотели, чтобы сочиненные ими строчки прочитали земляки.
Алеша читал письма, а сам думал о фронте. О далеких друзьях. И заново переживал все, что было с ним под Луганском и на Миусе.
Нужные слова нашлись. Сначала робко, потом все смелее и смелее стал включать Алеша в свой нехитрый рассказ выдержки из солдатских писем. А кончил обзор стихами лейтенанта, присланными из далекой Югославии:
Я дошел с боями до Белграда
И иной награды мне не надо…
Это были стихи о раненом бойце. О себе, наверно, писал лейтенант — хватали за душу строчки.
Василий Фокич вертелся в кресле и несколько раз надевал очки на нос, когда читал Алешин обзор. И странно, скорее печально, чем одобрительно, поглядывал на Алешу. А у того упало сердце, и он еле сдерживал короткие вздохи.
— Можешь, Колобов. Только насчет награды в стихе что-нибудь подмени. Боец от орденов отказывается…
Редактор принялся рассказывать о своей боевой молодости, о том, как он пришел в газету. И посвятил Алешу в некоторые тайны журналистики. Как лучше, например, брать интервью. Как отвечать на телефонные звонки из колхозов и городских организаций.
Оказывается, мало писать хорошие статьи. Нужно, чтобы с тобою считались. Если ты прав, то поспорь, будь принципиальным. Короче говоря, это была целая наука, которую Алеше предстояло осилить.
Обзор пошел в газету. Через два дня Алеша ухватил экземпляр номера, только что принесенного из типографии. Как в сказке: на газетной полосе — большущая статья, а под нею его подпись.
Редактор добился для него карточек в столовую, где дважды в день давали по тарелке супа или щей. Разрешил Алеше спать на редакционном диване. Это пока не подыщет подходящую квартиру.
И вот Алеша ехал в первую командировку. Трактористы давали на пахоте по две с половиной нормы. В Ачинске этому не верили. Агроном из райсельхозотдела клал голову на отсечение, что на черноземах да при побитой технике нельзя столько сделать.
— Вот и будешь ты судьей в споре трактористов с сельхозотдельцами, — сказал редактор.
Хорошенькое дело — судья. А что, если он не видел даже, как ее пашут, матушку-землю. Но отказываться от интересной командировки Алеша не стал. Ну не сумеет написать сам, попросит помощи у Василия Фокича. Главное, чтобы подробно расспросить обо всем, чтобы ни одна деталь не ускользнула. Так говорил Алеше редактор.
Машина, отчаянно сигналя, обгоняла телеги с горючим. А горючевозами сплошь были старые деды. Когда шофер требовал от них, чтобы они уступили дорогу, деды трясли сивыми бородами и грозили ему кнутовищем. Но помаленьку отваливали в сторону. Знали, что это машина МТС и что ее ждут на полевых станах.
— А в той деревне есть Пашка Сазонов. Он в прошлом году избил председателя колхоза до синяков. Из-за одной красноармейки. Они втихаря к ней похаживали. То один, значит, то другой. А тут их свел случай, — продолжал шофер. — И пьяные оба, на троицу дело было. Разойтись бы без шума. Баб-то ведь вон сколько…
— Как же так? — вступил в разговор Алеша. — Мужья, выходит, воюют, а тут…
— А чего тут? Тут ничего.
— Нехорошо все это.
Шофер покосился на Алешу:
— Ну и ну! Взаправду ты? Смешной… Ежели ребятишек нагуливать, так оно стыдно. А ежели то да се, да другое?.. Так Пашка Сазонов не имел, значит, никакого зла на председателя. Но тот возьми да съезди красноармейку по роже. Ты, говорит, чего ж это, сука? Тебе, говорит, мало одного? Вот тогда-то Пашка и принялся за председателя. Разукрасил чисто как клоуна. И ничего, тот смолчал. Ведь Пашку не пошлешь на фронт и не засудишь. На нем колхоз держится. Вот он-то как раз и напахал много.
Деревня открылась внезапно. Машина выскочила на бугор, и Алеша увидел аккуратные домики, разбежавшиеся по низине одной улицей. За селом поблескивала на солнце стальная полоса речки, а дальше за нею густо синела тайга. Удивительные места. А что будет здесь летом, когда распустятся листья на деревьях и запестрят на лугу цветы, трудно было себе представить. Пожить бы здесь!
— Мне в деревню ни к чему, — сказал шофер. — Я сразу на полевой стан, к Пашке Сазонову. А поварихой в Пашкином отряде та самая краля, — он многозначительно ухмыльнулся, нажимая на тормоза. — Так куда тебя?
— На стан, — махнул рукой Алеша.
— Он при себе ее держит. Ох и баба! Вот посмотришь!..
Алеша едва терпел шоферскую болтовню. Ему хотелось сказать, что все это совершенно неинтересно, что самому Сазонову Пашке следовало бы набить морду, чтобы не лез к красноармейкам. Но Алеша не мог портить своих отношений с шофером, который обещал через день заехать за Алешей и увезти его в Ачинск.
— Председатель теперь ходит к учителке. Там не на что глядеть — пуговица. А тоже то да се, да другое…
Полевой стан тракторного отряда раскинулся на голом бугре у края уходящего в низину покатого поля. Рядом с ветхим вагончиком стоял колесник, тут же были еще какието машины и приспособления, названия которых Алеша не знал. Неподалеку жарко пылал костер, обнимая закопченный котел, подвешенный на толстой березовой палке.
На сигнал автомобиля из вагончика выскочила женщина в фуфайке и холщовой юбке, повязанная выцветшей ситцевой косынкой. В глаза ей ударило солнце, и она ребром приставила ко лбу ладонь, чтобы лучше рассмотреть приехавших.
— Она, — еле слышно шепнул шофер.
Ничего привлекательного в ней Алеша не нашел. Среднего роста, плотная, толстозадая. Женщина, каких полно в каждом селе. Наверное, и он такой же, Пашка Сазонов.
— Бригадира нет, что ли? — спросил у нее шофер.
— Работал он сутки без передыху и чичас спит. Да, видно, уж пора будить. Хочет кончить полосу до ужина.
— А чем покормишь? — спросил шофер, направляясь к костру.
— Кулеш варю. Подожди малость.
Сазонова будить не пришлось. Он проснулся от шумного разговора и вышел из вагончика, костлявый, черномазый, волосы — кольцо в кольцо. Встал, широко расставив длинные ноги и подперев бока волосатыми руками. Его глаза исподлобья следили за приехавшими.
Алеша подошел к нему, поздоровался. Сазонов ответил незамедлительно, с подкупающей простотой:
— Здорово-те. По какому делу будешь?
— Я из районной газеты. Мы узнали о вашей высокой выработке, и я приехал, чтобы описать опыт.
— Ты ишака видал? — неожиданно спросил Сазонов.
— Да, — удивленный его вопросом, сказал Алеша.
— А я не видал. Но сказывают, что ишак столько везет на себе, что спина дугой прогибается. Переставляет ишак ноги и везет. Вот и весь его опыт. И мы так же.
— Ну, а почему не все так работают?
— Все стараются, да кой у кого кишка тонка. Я в прошлом году прицепщика запахал насмерть. Уснул — и под плуг. И не фронт у нас вроде, никто не стреляет, а тоже вот… Может, совсем и не сон виноват, а голодуха.
— Значит, вы считаете…
— Ничего я не считаю. В соседнем колхозе за два мешка пшенички семерых посадили. Того и гляди, что дадут вышку. Вот она, какая цена хлебу.
— А ты, Паш, приезжему про Митьку расскажи, — шепнула женщина, робко поглядывая то на Сазонова, то на Алешу.
— Что Митька! — отмахнулся Сазонов, но тут же спохватился. — Дак и он с устатку в копну свалился, да и болел к тому. А тракторист и не заметил его.
Алеша слушал Сазонова и думал о том, что редактор прав. Этот тыл неотделим от фронта. Вот в таких деревнях, Соколовках да Ивановках, по всей стране люди не жалеют себя для победы. А что до жуликов и дезертиров, то это ржавчина. Она и на фронте есть, только там ее легче распознать. Там человек весь на виду, куда бы он ни пошел, что бы ни делал. А в тылу можно спрятаться за должностью, за спиной родственника или дружка. Почувствовать себя незаменимым.
— Хорошо, Сазонов. Но на войну ты просился?
Тракторист улыбнулся своим воспоминаниям:
— Было поначалу. Вроде как совесть убивала. На передовой кровь льется, а я все тут. К директору эмтеэс ездил проситься на фронт. Да потом раздумался, что колхоз оставить на произвол судьбы нельзя. Я ведь двужильный. Мне в аккурат двух дюжих мужиков на прицеп надо, чтоб двадцать часов работать. Вот ты спрашиваешь про гектары. Дал я вчера и третьего дня по две с половиной нормы. А почему? Да потому, что норма рассчитана на восемь часов, а я прихватываю лишнего. Пожалел вот их и остался, — Сазонов кивнул на женщину. — А ты, я вижу, фронтовик.
— Фронтовик.
— Айда на полосу. Там потолкуем, — сказал Сазонов с подчеркнутой доброжелательностью и зашагал к трактору.
Он допахал загонку до ужина и переехал на соседнюю полосу. Пока прицепщик очищал корпуса плуга от налипшей на них земли, Алеша и Сазонов курили. Алеше определенно нравился этот работяга, который вел себя в разговоре уверенно, с достоинством. Мало-помалу Алеша стал с ним на короткую ногу. И позволил себе спросить, будто бы между прочим:
— Как у вас с председателем? Не очень сердится за синяки?
Сазонов сказал сухо, сдвинув брови, бурые от пыли:
— Шофер натрепался? Все в порядке у нас. А к любовнице я хожу, и с женой скандалю. Так и запиши, корреспондент.
— Зачем это мне? Совсем не надо. Я только так… Не вяжется, Сазонов… Передовой советский человек… — забормотал Алеша.
Сазонов захохотал. Он явно не ожидал от Алеши таких слов. Затушил о голенище и бросил подальше окурок.
— Передовой человек… — раздумчиво произнес он. — Чего же он, вроде мерина, что ли? А ежели мне баба по душе, и ежели я ей нравлюсь? Вы в газете не пишете, как быть нашему брату. Вы только про норму разные статейки сочиняете.
Алеша не нашелся, что ответить на это, и снова заговорил о цели своего приезда в тракторный отряд. Сазонов понял, что нужно газете. За многие годы работы (ему было тридцать) Сазонову не один раз приходилось встречать корреспондентов. А вопросы у них, что близнецы. Больше всего заправкой да смазкой машин интересуются.
— Тогда пиши, — сказал он тоном бывалого человека:
— «Военная весна сорок пятого года зовет нас к новым победам в труде»…
На обратном пути в Ачинск шофер снова не закрывал рта. И откуда только брались у него смешные и грустные истории, которые он перемежал рассказами о собственных приключениях! И хотя в его жизни ничего выдающегося не было, он преподносил ее, как сплошной подвиг.
Изо всей шоферской болтовни Алешу заинтересовал лишь случай с отцом Пашки Сазонова. Старший Сазонов был партийным, создавал колхоз в деревне. А в этих глухих местах тогда бродили кулацкие банды. Жгли колхозное добро, убивали активистов. И сюда однажды нагрянула банда, привел ее местный богатый мужик.
— Такая была расправа, что кровь лилась рекою, — говорил шофер. — Мы не заезжали в село, а там есть братская могила, прямо под окнами у правления… Искали бандиты и Пашкиного батьку. А он к тому самому кулаку на сеновал пробрался и спрятался в сене. И остался живой. Правда, через несколько месяцев его шарахнули из-за угла. Из боевой винтовки, прямо в сердце.
Об этом написал Алеша в своей статье. А статья была не столько про нормы, сколько про нелегкую жизнь деревни.
Редактор похвалил Алешу. А статью о Соколовке Алеша послал отцу. «Нет, папа, жалость твоя была не к месту. Не разглядел ты в кулачье лютого, готового на все врага».
8
Алеша искал Наташу. Он написал на фронт подполковнику Бабенко. Она усачу непременно сообщит о себе. А в том, что Наташа жива, Алеша нисколько не сомневался. Она должна жить.
Номер полевой почты своей дивизии Алеша знал. Только бы не перевели никуда Бабенко. Впрочем, он написал прямо на конверте, чтобы письмо переслали туда, где служит теперь подполковник.
Шла к концу уже вторая неделя, а от Бабенко ничего не было. Однако хотел Алеша невозможного. Лишь на фронт письмо должно идти с полмесяца. Войска были теперь далеко за границей.
Алеша много работал в редакции, ходил на репетиции, а если вечером выдавалась свободная минута, забегал к Ваньку.
Вера предлагала Алеше помощь. Она могла бы, например, постирать белье. Но Алеша отказывался. У него всего была одна-единственная пара белья, которую постоянно носил, а стирал прямо в бане. И высыхало белье на нем. Разумеется, Алеша не говорил об этом Вере. Он выдумал типографскую прачку, которая, по его словам, ему стирала.
Вера приносила на репетицию всякую снедь и пихала ее в карманы Алеше. Он пробовал было возражать, но куда там! Вера хмурилась, ворчала, и он сдавался. Вообще она в отношении его применяла такую власть, перед которой он пасовал. Свою уступчивость Алеша объяснял тем, что Вера мудрее его в житейских делах, потом ведь это не какая-то барышня — в одной школе учились, давно знакомы.
Бывало, что не увидев Веру день-другой, Алеша тосковал о ней. Он чувствовал, что ему недостает ее. По ночам бесился, думая, что она сейчас с Ваньком, а не с ним, Алешею. Тогда вскакивал с дивана, грудью припадал к столу и писал до утра. Это были и стихи, и письма ей, которые он тут же рвал и бросал в корзину.
Но боль проходила. Чаще всего на следующий же день Алеша подтрунивал над собою. Тоже вбил себе в голову чушь.
Ванька он считал не очень далеким, но и не глупым человеком. Он даже по-своему умен, такие обычно умеют потрафить начальству и быстро делают карьеру.
Но по временам Алеше казалось, что он слишком пристрастно судит Ванька. Во-первых, разные у них характеры, и требовать от него того же, что в тебе самом, было, по меньшей мере, наивно. А во-вторых, Ванек жил с Верой.
Репетиция «Леса» закончилась. Это был последний прогон. Предстояла «генералка», а за ней — премьера. Кружковцы чувствовали себя немножко усталыми, немножко взвинченными. Они собрались на сцене вокруг Агнии Семеновны, которая должна была сказать свои замечания.
Демидов ходил в глубине сцены, заложив руки за спину. Он остался доволен игрой Алеши. Едва закрылся занавес, Демидов ухватил Алешу за руку и, выпятив нижнюю губу, прищелкнул языком:
— Ах, как это у вас, Алеша!.. Особенно то место, когда вы уже на авансцене. «Послушай, Карп!»… Да такое благородство в лице, такая величественность жеста! И пропадает, совершенно исчезает граница между актером и человеком. Он уже не играет, а страдает глубоко и бесконечно. И поднимается до подлинного трагизма.
— А не пережимаю здесь? — поинтересовался польщенный Алеша.
— Нет. Актерское амплуа Несчастливцева стало второй его натурой. Именно так и нужно играть. Иначе произойдет некоторое заземление и даже… — он подыскивал подходящее слово. — Даже бытовизация образа.
Теперь Алеша ждал, что скажет о нем Агния Семеновна. И вот она поднялась, отодвинула стул, заговорила спокойно и мягко. Да, спектакль есть. За что боялась она, то прошло на должном уровне.
Агния Семеновна безоговорочно согласилась с трактовкой ролей, которые играли Демидов и Алеша, похвалила Веру. Она сказала:
— Каждый день повторяйте роли. Генеральная репетиция будет только через неделю. Декорации не делаются. Заболел художник.
— А если мы сами? Щитов хватит. Эскизы у меня где-то есть. Я поищу сейчас же, — предложил Демидов.
— Согласен работать хоть до утра, — сказал Алеша, которому некуда было спешить.
— Я бы тоже осталась, но завтра комсомольское собрание на транспорте. Нужно готовиться, — тихо проговорила Соня.
— С удовольствием поработаю, — Вера искоса посмотрела на Алешу.
Когда стали расходиться, Агния Семеновна сказала Алеше:
— Ну, спасибо, выручили. Только не очень тут увлекайтесь. Завтра ведь на работу.
— Успею выспаться.
— А ты меня проводишь? Никто не идет в мою сторону, — сказала Алеше Вера.
— Вот и умница, — сказал Алеша, когда они вышли на улицу.
— Ты о чем?
— А о том, что идешь спать.
Вера засмеялась. И почудилась Алеше в ее смехе затаенная грусть. И у самого Алеши отчего-то защемило сердце, он вздохнул и, взяв ее под руку, зашагал быстрее.
Ночь была по-весеннему хмельная и темная. Небо укрылось тучами, лишь у самого горизонта светилась, помигивая, одинокая звездочка. Временами и она пропадала. Тогда становилось совсем непроглядно и жутко.
Они шли по берегу реки, от которой несло холодом, и Вера, поеживаясь и вздрагивая, плотнее жалась к Алеше. А ему было приятно, что она с ним рядом, что они только вдвоем в этой весенней темени. Если бы знал Ахмет или Лариса Федоровна, как хорошо сделал Алеша, поехав в Сибирь! Они бы, наверное, удивились, что снова играет он с Верой в спектакле и провожает ее домой.
— Ты о чем думаешь? — спросила она, замедляя шаг.
— О нас с тобой. Ведь это же надо так… Встретиться за тысячи километров. И где? В Сибири. Видно, судьба, — усмехнулся он.
— А я тебя никому не отдам, Алеша, — на одном дыхании решительно сказала она. — Никому.
Поняв это как шутку или реплику из роли, Алеша ответил:
— Кто меня возьмет? Кому я нужен?
Она замолчала. И лишь когда они подошли к ее дому, продолжила разговор:
— Агния Семеновна хотела, чтоб партнершей тебе в новой пьесе была Соня. Мол, роль бесцветная, нечего играть. А мне характерную роль наметила. Только я не хочу, чтобы ты ее обнимал. Даже на сцене. И Агния Семеновна обещала нас переставить. Верно ведь? Я тебя в театр привела?
— Ладно. Иди к своему, — с некоторой грубоватостью сказал Алеша.
Вера не обиделась. Она лишь произнесла властным, не допускавшим возражения тоном:
— Жди меня. Я возьму чего-нибудь перекусить, и мы пойдем обратно. Не вздумай уйти.
— Слушай, Вера, в театре тебе нечего делать!
— Это мы еще посмотрим, — она стукнула калиткой, и вот уже каблучки ее туфель зацокали по крыльцу. Она долго открывала замок. Значит, дома Ванька не было.
Оставшись один, Алеша размышлял над тем, что произошло. Кажется, ничего особенного. Поболтали, как всегда, пошутили. Но у Веры резко звучал голос, словно она чем-то раздражена.
«Конечно, ей не хочется играть характерную роль. В этом и причина», — решил он.
— Где Ванек? — спросил Алеша, когда она вынырнула из калитки.
— Ванек дежурит.
А прежде она называла мужа Мишей. Кажется, это заметила она сама, потому что сказала, беря Алешу под локоть:
— Не ты дал ему это прозвище?
— Не помню.
— Ты. Ты вредный, и язык у тебя, как бритва. И еще ты плохо поступаешь со мной, — проговорила она и дотронулась щекой до его щеки.
В театре уже работали Демидов и железнодорожник Витя Хомчик, длинноносый, высокий парень. Витя носил из-за кулис в фойе большие щиты и ремонтировал их. А Демидов растирал мел в муку, ежеминутно бегая к себе в каморку узнавать, не закипел ли на плите вонючий столярный клей.
— Пришли, милейшие! — воскликнул Демидов и сунул в руку Алеше тяжелый железный пестик. — Кто любит искусство, тот не брезгает любой черновой работой, — откинулся он на спинку бутафорского дивана, крашенного бронзой. — О, чем не приходилось заниматься нам прежде! Когда дело прогорало, антрепренер понемногу начинал увольнять декораторов, костюмеров, бутафоров и даже парикмахеров. И актеры распределяли меж собою их обязанности. Работали за гроши, чтоб только, не прихлопнули антрепризу. И так продолжалось месяцы. Но попадали на большую ярмарку или в городок, где никто не гастролировал в то время, а городок был театральным. Вот тут и делали приличные сборы. И все шло наоборот. В труппе появлялись парикмахеры, рабочие сцены. О, как мы приветствовали их!
На некоторых щитах мешковина была изорвана. Вера раздобыла в костюмерной нитки и принялась за работу. Но нитки оказались прелыми, рвались, когда она пыталась затянуть дыры. Тогда Вера ссучила их в жгутик, но он не пролезал в ушко иголки. Она приноравливалась и так и сяк, однако ничего у нее не вышло.
— Вы терпите фиаско, прелестная Вера? — увидев ее старания, проговорил Демидов.
— Да вот, Александр Георгиевич… — с досадой сказала она.
— Я выручу вас, дитя.
Когда в начале войны труппу в Ачинске распустили и закрыли театр, Демидов оказался одним из немногих актеров, кто остался в городе. Остальные подались в более крупные города, где надеялись найти работу по специальности. А Демидов рассчитывал пристроиться в одну из промартелей за плату руководить самодеятельностью. Но время было такое, что везде обходились без драмкружков, и, чтобы не умереть с голоду, актер освоил ремесло сапожника. Кроме того, он научился из автомобильных камер делать галоши, которые надевали на валенки. Так что у него был весь сапожный и вулканизаторский инструмент. Он принес Вере длинную и толстую, изогнутую на конце иглу и еще дратвы, и вдвоем с Верой они вскоре привели в порядок мешковину.
Алеша насадил на палку обыкновенную травяную щетку, какой белят в квартирах, туго закрепил ее проволокой, чтоб не лезла трава. Потом ссыпал в ведро толченый мел, размешал его в разведенном клею, добавил воды и несколько порошков голубой краски.
— Дай-ка лучше мне, я умею белить, — Вера взяла щетку, окунула ее в раствор и стала покрывать им щиты. Действительно, делала она это очень ловко. Но вскоре устала, и Алеше пришлось ее сменить.
Работали они до того времени, пока в городе не погасло электричество. Потом Демидов сходил за лампой, но в ней было ровно столько керосина, сколько надо, чтобы при ее свете Демидову проводить кружковцев домой и закрыть двери театра. Все равно ушли удовлетворенные: сделано немало. Щиты высохнут к утру, и можно будет расписывать их под обои.
— В России подлинное искусство создавали подвижники. И эта традиция, как видите, жива. Спасибо вам, — растроганно говорил Демидов на прощание.
Накрапывал дождь. Алеша с Верой хотели переждать его под козырьком какой-то крыши. Они стояли, прижавшись друг к другу, и Алеша слышал, как бьется Верино сердце. А она взяла его руки и поднесла к своим губам, стремясь согреть их дыханием.
— Иди. А то простудишься и заболеешь, — шептала Вера. — Я сама скорей добегу.
Конечно, в пальто ей было теплее, чем ему в гимнастерке. Озноб пробирал Алешу до костей, а редакция совсем рядом. Но позволить, чтобы Вера пошла домой одна, он не мог. Сдерживая дрожь, Алеша сказал:
— Если страдать, так уж вместе.
— Тогда чего ждать? Дождь зарядил надолго. Идем, — она легонько подтолкнула его.
Тротуара по берегу не было. Алеша и Вера шли напрямик, не различая тропинки, скользя и попадая в ямы. Промокшим до нитки, им терять уже было нечего, и они с удовольствием, с какой-то неуемной лихостью шлепали ногами по лужам.
— Мы действительно подвижники, — смеялась Вера.
Она пригласила Алешу к себе в дом. Она не могла допустить, чтобы он схватил воспаление легких. Посушит одежду, возьмет фуфайку Ванька и тогда пусть идет на здоровье.
В доме было тепло. Алеша вскоре стал согреваться, почувствовал, как запылало его лицо. Он снял гимнастерку, и Вера повесила ее сушить. Предложила ему снять и брюки, они были совсем мокрые, но Алеша замялся. Тогда Вера потушила свечу.
— А сам ложись на диван в столовой. Я постелила. Скорее согреешься, — сказала она. — Может, водки выпьешь? Или вскипятить чай?
— Спасибо, я ничего не хочу.
Устроившись на диване, Алеша слышал, как, разобрав постель, укладывалась в спальне Вера. Она ворочалась с боку на бок, скрипя сеткой кровати. Он подумал о том, что хорошо бы прийти сейчас к ней, поцеловать ее, прижаться к ней. От одной этой мысли у Алеши перехватило дыхание, а во рту стало сухо. Нет, он никогда не сделает этого. Вера оттолкнет его, обидится.
А вот другие мужчины как-то делают это, не боятся. Тот же Павел Сазонов, к примеру. Как он сказал Алеше: «А ежели мне баба по душе, а ежели я ей нравлюсь?» Нравится ли Вере Алеша? Любит ли она его? А сам он ни за что не осмелится подойти к ней. Он вообще не знал еще ни одной женщины, а Веру, которая так дорога ему, разве мог он обидеть! Пусть не обидится даже, но нехорошо подумает, и то ему станет невыносимо тяжело.
Близость Веры все больше распаляла его воображение. Сердце то замирало, то вдруг стучало гулко, когда он представлял себя рядом с нею. О, почему же случилось так, что она оказалась женою Ванька, а не Алеши!
— Ты не спишь? — вдруг спросила Вера.
— Нет, — задыхаясь ответил он.
— Спи, а утром уйдешь.
Некоторое время в доме было тихо, потом Алеша явственно услышал, как Вера завсхлипывала. Почему она плачет? Что с ней? Может, у нее горе?
— Вера!..
— Что? — сдавленным голосом поспешно отозвалась она, и в ту же секунду из ее груди вырвался протяжный стон. — Иди ко мне!.. О!..
Алеша не помнил, как он кинулся к ней, как Вера впилась губами в его пылающие губы, а ее волосы заструились в его руках.
— Люблю, милый… Люблю…
Рассвет заглянул в окно. Они лежали рядом, и Алеша целовал неприкрытое одеялом голое ее плечо. А Вера счастливо улыбалась и шептала:
— Вот и случилось. Теперь ты совсем мой, совсем-совсем. Какая я дура! Я ведь любила тебя, всегда любила. Не веришь?.. Сейчас я даже понять не могу, как это вышла за Ванька. Мне тогда было абсолютно все безразлично. Он приходил к нам домой, мы дважды бывали на танцах, И расписались потом. А когда ты приехал, как я только увидела тебя, все во мне перевернулось, и поняла я, что не будет мне счастья ни с кем, кроме тебя. Ты приехал ко мне?
— Да, да, Вера! — сказал он. А ведь и в самом деле он примчался в Сибирь из-за нее. Он лишь не хотел признаваться себе в этом.
— Теперь расскажи мне все. Как ты воевал, как выжил. Я должна знать о тебе все, все.
9
Сводки Советского информбюро пестрели непривычными названиями венгерских, чехословацких, немецких городов. Всякий раз казалось, что еще одно, последнее, усилие, и на планету вернется мир. И в то же время не верилось, что может наступить тишина, что люди услышат, как смеются дети и растут травы.
Каждый день Алеше приходилось выпускать оперативные бюллетени газеты. Он принимал текст по радио, сдавал в набор, верстал и вычитывал перед выходом в свет. Василий Фокич ездил по колхозам как уполномоченный райкома партии. А ответственного секретаря в газете не было. Еще за неделю до Алешиного прихода в редакцию, женщина, эвакуированная москвичка, занимавшая эту должность, уехала к мужу не то в Омск, не то в Свердловск. Вот и работал Алеша в редакции сразу за троих.
Окончив прием очередной сводки, Алеша отдал текст наборщикам и решил сходить на базар за табаком. Курил он много. Ему едва хватало на день стакана, и маленькая комнатка, где он теперь работал, так провоняла дымом, что сам Алеша недовольно крутил носом.
У пивного ларька Алешу перехватил Самара. С неизменным котелком он, подобно поплавку, вынырнул из людской гущи и, сердито оглядываясь назад, вышел на тротуар. Он поджидал Алешу, все такой же измызганный, небритый, с затекшими глазами.
«Будет просить на пиво», — с неприязнью подумал Алеша, пытаясь пройти стороной. Но этот маневр ему не удался. Самара явно не относился к тем, кого можно было так просто одурачить. Он сделал несколько торопливых шагов и оказался лицом к лицу с Алешей.
— Я беден, о как беден я! — горестно воскликнул Самара, церемонно кланяясь Алеше. И добавил шепотом: — Выслушай меня, дружок.
Алеша удивленно вскинул брови. В самом деле, этот пьяница не был так глуп, как казалось на первый взгляд. Но что он скажет интересного для Алеши?
— Пройдем, — кивнул на тротуар Самара. — Если не ошибаюсь, то ты работаешь в газете… А, привет, привет, — закричал он встречному, такому же, как сам, бродяжке.
— Да, работаю в газете, — сказал Алеша.
— Может быть, я не по адресу, но есть любопытный сюжет. Не знаю, как сейчас, а до войны частенько давали в газетах подобные штучки. Ты помнишь Жучка? Он был с нами, когда ты угощал, — Самара сделал загадочное лицо. — Жучок из-под полы продает валенки. Совершенно новые валенки.
— Ну, — нетерпеливо произнес Алеша.
— Перед войной я сгорел на дамском трикотаже. Пересортица. Какие-то гроши. А тут что ни день — тысячи рублей! И если написать об этом, о-о-о!
Алеша остановился и вопросительно посмотрел на Самару. Чего, мол, тянешь? Говори. Самара так и понял его, но прежде сказал:
— Мы с тобою ни о чем не толковали.
Алеша согласно кивнул головой.
— Не из какой-то зависти, а потому, что Самара — честный человек… Жучок продает в день по нескольку пар валенок. А берет их в пимокатной артели. Там целая банда.
— Откуда это известно? — заинтересовался Алеша.
— От самого Жучка. Он хвастался. И меня вербовал. Но мне ни к чему такое. Я свое отсидел. Я лучше попрошу. Неужели ты мне откажешь на пиво? — И он привычно протянул руку.
Вот он, тот самый случай, когда Алеша должен наказать зло. Он разоблачит жуликов во что бы то ни стало. Но прежде чем писать, нужно собрать какие-то факты. А сами жулики их не дадут. Очевидно, хитро заметают следы, если не добрались до них прокурор и милиция.
Нужно посоветоваться с Василием Фокичем. Он давно в газете, знает, как поступить. И Алеша с нетерпением стал ожидать приезда редактора. Алеша готов был поехать к нему в колхоз, если бы только кто выпускал газету и бюллетени.
Но, к счастью, уже назавтра Василий Фокич вернулся из командировки. И первым, что он услышал от Алеши, разумеется, был пересказ разговора с Самарой.
— Черт его ведает, как верить пропойце, — задумчиво говорил Василий Фокич, меряя кабинет короткими и кривыми ногами. — Может, он спьяна наговорил на своего дружка. Но сигнал все равно нужно проверить. Сходи-ка ты, Алеша, туда и потихоньку расспроси людей. Впрочем, тут надо действовать как-то иначе, чтобы не вспугнуть жуликов. Плохо, что в артели нет своей парторганизации. Тогда бы мы разузнали, что нам надо, через нее.
— Хорошо, а если я не скажу, что пришел от газеты? — Алеша в упор посмотрел на редактора.
— Это положения не меняет. Для них важно, что кто-то заинтересовался ими. А раз так, то дело может принять нежелательный оборот, скажут они. И прекратят на время свои махинации.
— Им нужен массовик! — воскликнул, сорвавшись с места, Алеша. — Что ж, поработаю массовиком. Как, Василий Фокич?
— Записываешься в Шерлоки Холмсы? — усмехнулся редактор. — Затея и ничего вроде, но попахивает авантюрой. Как бы самих не просмеяли нас потом.
— Рискнуть стоит, Василий Фокич.
Редактор еще пробежал по кабинету, затем опустился на стул и долго с вниманием глядел на Алешу, Наконец произнес резко и твердо:
— Ступай. Но не очень зарывайся.
Это был сигнал к атаке. И, услышав его, Алеша понесся на окраину Ачинска, где находилась артель. Но, пройдя добрую половину пути, он подумал, что лучше начинать дело с горкома комсомола. Тогда вряд ли у кого возникнут подозрения. Горком ежедневно посылает людей на предприятия. Только бы никто не занял должность массовика.
И Алеша повернул обратно, к горкому комсомола. Он застал там Соню. Она обрадовалась ему так, словно они встречались не на вчерашней репетиции, а, по крайней мере, месяц или год назад. Она отпустила всех, кто был в ее кабинете.
— Хочу к пимокатам! Позвони им, пожалуйста, — сказал он, присаживаясь у стола. — Помнишь, говорила насчет массовика?
Соня забеспокоилась: все в редакции было у него хорошо, и вдруг уволился. Наверное, поругался с редактором. Они очень вспыльчивы, эти фронтовики.
— Как же так? — растерянно забормотала она.
— Я потом объясню тебе, Соня, — он нетерпеливо поднялся со стула. — Звони в пимокатную артель.
— Но прежде я должна позвонить в редакцию…
— Да ничего я там не наделал. Не бойся.
— Ты очень странный, Алеша. И потом ведь мы не в театре. Я секретарь горкома, я отвечаю…
— Фу! — Алеша снова упал на стул. — Как хочешь, так и поступай. Только поскорее, — а когда она потянулась к телефону, он опередил ее, снял трубку. — В редакцию звонить незачем. Я там и работаю. Но мы узнали, что в артели завелись жулики. И надо это проверить. А как? Устроюсь на пару дней к ним. Короче говоря, сыграю роль массовика. Звони.
— Понимаю, — Соня качнула головой. — А у нас, между прочим, там есть комсомольская организация.
— Ну и что?
— Мы могли бы и сами проверить. И принять меры.
— Хорошо, — насупился Алеша. — Я это сделаю без твоей помощи.
Соня дернула носиком и простодушно сказала:
— А ты уж и сердишься.
Она по телефону вызвала председателя артели и попросила устроить массовиком Алексея Колобова. Да, фронтовик, со средним образованием, комсомолец. По всем статьям подходящий.
— Но запомни, Алеша: я не отвечаю за твои фокусы, — сказала она на прощание. — Пришел, попросил устроиться на работу. Поэтому я и звонила, — перед кем-то невидимым оправдывалась она.
Председатель артели Елькин, грузный мужчина, с тремя подбородками, тяжело дышал, привалившись огромным животом к столу. Его глаза абсолютно ничего не выражали, по ним невозможно было понять, пришелся ли Алеша по вкусу председателю. А голос у Елькина был высокий, бабий, звучал он добродушно и даже несколько сладковато.
— Квартира у вас есть? — спрашивал Елькин.
— Нет.
— И у нас нет. Карточка спецпитания есть?
— Нет.
— И у нас нет. Оформляйся, знакомься с производством. Коллектив хоть и маленький, но ничего. Иди в цеха.
Это было именно то, что нужно. Алеша пошел по избушкам, которые теснились во дворе, громко именуясь цехами. В них было сыро, резко пахло кислотой. Костлявые, мрачные пимокаты встречали и провожали Алешу колкими взглядами. Когда он спросил у одного из них, доволен ли тот работой, пимокат ответил:
— Ничаво. Знакомо дело. Председатель тоже ничаво. Дает заработать копейку.
В основных цехах Алеша не увидел никого из молодых. Молодежь, оказывается, заготавливала дрова для артели, возила сено на конный двор. Несколько девушек приметил в конторе. А еще была здесь совсем юная кладовщица. К ней-то к первой и подошел он с расспросами.
— И много вы отпускаете в день валенок? — поинтересовался он.
— Когда как. Бывает, что и до ста пар, а когда — ни одной. У нас ведь их готовят целыми партиями, — объяснила она.
— На месте никому не продаете?
— Как можно! — изумилась она. — Все идет по нарядам. Фактуруем на базы и в магазины.
— Документ какой остается?
— А как же отчитываться буду? — снова удивилась она. — Остается фактура. Вот, пожалуйста, — протянула бумажку, но тут же взяла обратно. — А кто вы такой?
— Я у вас новый массовик, — улыбнулся Алеша. — Надо же мне ознакомиться с порядками.
Она возвратила ему фактуру. Он пробежал бумагу глазами. Документ как документ. Из него ничего особого не узнаешь.
Следом за Алешей на склад явился седобородый старик. Он исподлобья смотрел на нового массовика и, как показалось Алеше, хитро ухмылялся. Он слышал Алешин разговор с кладовщицей, и на этот счет у старика было свое мнение. В его голосе послышалась затаенная боль, когда он сказал:
— Филькина грамота, а не фактура. Посмотри, гражданин, какой размер у валенок значится, — и он свирепо сверкнул глазами. — Тридцать второй. Все подряд тридцать второй. А таких колодок у нас нету. Вот и смотри, гражданин, а больше я тебе не скажу.
С тем и ушел. Ничего не понял Алеша из его речи. Было ясно лишь, что старик раздражен путаницей с размерами валенок. Видно, не раз ругался из-за этого.
— Он у нас ко всему цепляется, — махнула рукой кладовщица. — Уж до того нудный дед, что всем надоел. Прилипчивый, как муха.
Со склада Алеша пошел в сушильный цех. Говорил с рабочими. А из головы не выходили дерзкие слова старика. Может, именно в них и есть ключ к разгадке злоупотреблений. Алеша спросил рабочих о старике.
— Сивый-то? Да кто ж его не знает, балаболку, — в один голос ответили те.
И все-таки Алеша решил еще поговорить со стариком. Но едва обратился к нему, как тот огрызнулся с явным недружелюбием:
— Ты не допытывайся, гражданин. Ничего я тебе не скажу, — и добавил совсем сурово: — Ходят тут всякие. Я вот председателю Елькину пожалуюсь.
Алеше пришлось оставить его в покое. Но в этот день он не мог отвязаться от мысли, что старик носит в себе какую-то тайну, о которой он заикнулся на складе. Может, то, что ищет Алеша, а может, и другое.
Вечером в редакцию пришел Василий Фокич. Он был в добром настроении. Долго вышагивал по кабинету, радостно потирая руки. Затем остановился у Алешиного стола и сказал:
— Какие у нас люди, Алеша! Да-да! Приехал я в колхоз к чувашам. Ну что там за колхоз! Пятнадцать дворов. Сто гектаров посева, а техники — конь да вол, да коровы колхозников. И пашут, и сеют.
— А трактористы! — подхватил Алеша, — Здорово работают. Выше человеческих возможностей!.. Честное слово, выше! А на прицепах — женщины, подростки.
— Дай им поесть досыта, дай новую технику. Тогда они себя не так покажут.
Отложив вычитанные гранки, Алеша начал рассказывать о пимокатной артели. Василий Фокич то благодушно похохатывал, то по привычке повторял свое «да-да». Но едва Алеша упомянул о старике и его короткой, но страстной речи, как редактор насторожился и попросил все повторить.
— А старик прав, что отшил тебя. Не лезь, куда не просят, если ничего не понимаешь. Вот как он рассудил, — живо сказал Василий Фокич.
Алеша обиженно отвел в сторону потускневшие глаза. Редактор, заметив его враз упавшее настроение, похлопал Алешу по плечу и проговорил мягко, без укора:
— Он же тебе все разжевал и в рот положил. Да-да! Ну, а потом взяло его зло, что ты не разобрался в этом деле. Может, он должностью своей в артели или чем еще рисковал. Ты видел на складе валенки?
— Конечно, — пробормотал Алеша.
— Были там детские и женские размеры?
— Наверно. Некоторые стояли на полках совсем маленькие.
— А в фактуре — самый большой размер. Смекаешь, для чего это? — Василий Фокич многозначительно поднял палец. — По шерсти большой валенок равен паре маленьких. Значит, экономия составляет почти пятьдесят процентов. А из шерсти, что остается, катают валенки для продажи налево. Понял?
— Кажется, начинаю соображать, — протянул Алеша.
— Ну то-то. И думаю, что пимокатам тоже что-то перепадает по мелочи, если они так довольны Елькиным и молчат. А сивобородый дед — золото. Теперь узнай, Алеша, по какой цене продавались валенки в магазинах. А в артель можешь не ходить. Там все ясно. Нужно теперь пощупать их прибыли.
На следующий день Алеша сходил в магазин военторга. Узнал, что по ордерам продавались валенки, и были они в разную цену: детские — дешевле, мужские подороже, как и положено по прейскуранту.
— Я так и предполагал, — сказал Василий Фокич. — Они торгуют себе в убыток. Пара валенок по фактуре стоит сто восемьдесят рублей, а в магазине ее продают за сто двадцать или сто рублей.
— Так какая же им выгода? — потеряв нить редакторских рассуждений, удивился Алеша.
— А выгоду давай посчитаем. Пара женских валенок стоит сто двадцать рублей. Значит, продавец магазина по сравнению с фактурой недобирает шестьдесят рублей. Но это твердая цена, по ордеру. А на базаре валенки стоят восемьсот рублей. Шестьдесят продавец вложит в кассу. И чистой прибыли, остается семьсот сорок целковых на каждую пару. Ну, минус двадцать рублей за катку. Вот какая получается арифметика.
— Неужели? — опешил Алеша. — И как это вы подсчитали!
— Научился в газете. За пятнадцать лет работы. И ты скоро научишься, — ответил Василий Фокич. — Самаре нужно сказать спасибо. Он вывел нас на крупную, шайку.
Редактор заторопился на бюро в горком партии. Алеша сел за фельетон. Он долго ломал себе голову над заголовком, искал похлеще слова. Ведь это будет тот самый первый фельетон, о котором когда-то мечтал Алеша. И не поздоровится от него жуликам из пимокатной артели.
Фельетон понравился Василию Фокичу. Он пошел в набор. Но за день до выхода очередного номера газеты редактору позвонили из горкома.
— Вы замахиваетесь на опытного руководителя, — сказал секретарь горкома по кадрам. — Есть сведения, что ваш работник необъективно проверял факты. К тому же, что это за методы проверки! Приходит под видом массовика, кого-то спрашивает… Говорят, что одних недовольных… Смотрите, Василий Фокич…
— Мы подумаем, как быть, — коротко ответил редактор.
Голос в трубке стал глуше и добрей:
— Да, подумайте, Василий Фокич. Может, мы сначала расследуем поступивший сигнал. Ведь вы же знаете Елькина. Ну безупречный человек! Ну что вы!..
Редактор повесил трубку и тяжело вздохнул. И, как ни в чем не бывало, углубился в бумаги.
А немного погодя в редакцию заявился Ванек. Он впервые пришел сюда и чувствовал себя здесь робко. Редакция определенно вызывала у него уважение и даже страх. Еще бы, распишут тебя на весь город и район, а потом доказывай, что ты не виноват. Кто поверит в твою правоту?!
Алеша провел Ванька к себе, усадил. Закурили, и Ванек, оглядевшись, стал посмелее. Он расстегнул верхние пуговицы кителя, совсем по-домашнему откинулся на спинку стула.
«Чего это он ко мне?» — тревожно подумал Алеша.
Ванек стал выговаривать Алеше за то, что тот давно не бывал у него в доме. Ну разве так поступают друзья! И еще Ванек договорился в одном месте, что Алеше выдадут ордера на военный шерстяной костюм и фуфайку. Это будет стоить совсем дешево, а материал — первый сорт. Ванек тут знает всех, и ему никто не откажет.
— А драчку ты затеваешь напрасно, — заискивающе сказал Ванек. — Какая тебе польза, если Елькина арестуют и осудят? Да и кто его судить будет, когда все в городе за него! Он для них свой, а ты кто? Подумай хорошенько, пока не поздно.
— Значит, советуешь молчать? — процедил сквозь зубы Алеша.
— Понятное дело. Ну чего тебе за нее заплатят?.. Изорви ты эту самую…
— Фельетон?
— Вот именно. Изорви фельетон! Ты не пожалеешь. Все у тебя будет, — горячо зашептал Ванек, косясь на плотно прикрытую дверь.
— А мне от Елькина ничего не надо, Ванек, — повысил голос Алеша.
— Да не от него, а вообще… И не кричи ты!.. Я сказал, что ты мне друг, и мы все уладим. Ты ведь пока что не разобрался в здешней обстановочке, не сориентировался.
— Нет, Ванек, ничего я не сделаю. Его, подлеца, судить будут. Что заслужил, то и получит. И я бы на твоем месте не защищал мошенников.
Лицо и шея у Ванька покраснели от напряжения, ему хотелось наговорить Алеше тысячу самых резких слов, но он сдерживал себя. Ванек знал, что руганью не возьмешь. А он должен добиться своего. Ведь если фельетон не пойдет в газете, Ванек станет в своем кругу чуть ли не героем.
— Послушай, Алеша. Мы учились вместе, дружили. Я готов был всегда заступиться за тебя. И заступался. А когда мне от тебя понадобилось…
— Это не тебе, — прервал его Алеша. — Это Елькину.
— А может, и я горю на этом деле, — мрачно сказал Ванек, опустив взгляд.
— Ты? Врешь, Ванек! Врешь ведь!
— Ну, а если бы горел? — Ванек круто повернулся к Алеше.
— Я бы все равно фельетон напечатал, — после некоторого молчания ответил Алеша.
— Значит, ради красного словца не жалеешь мать и отца? — голос Ванька зазвучал глухо и угрожающе.
— Как хочешь, так и считай.
Ванек ушел не попрощавшись.
10
Афиши спектакля, отпечатанные в типографии на оберточной серой бумаге, глядели на ачинцев с каждого забора. У завзятых театралов начались волнения. До войны в городе этот спектакль шел с успехом, о нем помнили. Театралы отдавали должное и теперешним артистам. Чего, мол, бога гневить понапрасну — играют! Но до войны было, о!.. Ачинцы, что постарше, закрывали глаза и млели от восторга.
Алешу злили эти разговоры. Ему хотелось бросить театралам в лицо, что до войны были хороши не одни спектакли — все было хорошо! И зрители, изрядно постаревшие с той поры, тосковали не столько по вдохновенной игре артистов, сколько по собственной молодости. Ушла она, утекла безвозвратно ваша молодость, тю-тю ее! Морщины залегли глубоко, и мешки под глазами.
А не избалованная зрелищами молодежь ждала спектакля, словно праздника. Не часто бывало такое в Ачинске за последнее время. В театре по вечерам обычно устраивались танцы да иногда выступал какой-нибудь тощий гастролер с гирями. Правда, заезжали в Ачинск и плясуны, но выступали всего один раз. Плясали они хуже базарных цыган. К тому ж, уезжая из Ачинска, прихватили с собой изрядный кусок плюша от занавеса.
Перед премьерой кружковцы жили тревожно. Боялись, что билеты не будут проданы, что портниха не успеет дошить костюмы, что кто-то заболеет перед самым спектаклем. Демидов поминутно хватался за сердце и пил валерьянку. Ему мерещились накладки и провалы.
— Только не волноваться! — говорил он, вздрагивая всей спиной.
Кружковцы жались друг к другу, как овцы, завидевшие волка. Но что они могли поделать теперь! Они были обречены или на аплодисменты или на ехидный смех и ропот зала. Чем дело кончится, никто не пытался предсказывать. Лишь Агния Семеновна нарочито веселым голоском хотела вселить бодрость в своих артистов. Однако ее выдавали глаза. Они глядели испуганно и устало.
И этот день наступил. Он был отмечен началом ледохода. Часа в три, когда жаркое солнце хлынуло на город, река вдруг глухо заворочалась, зашумела. Лед не выдержал ярого натиска весны: дрогнул, стал лопаться, ошалело кружиться на воде. Сперва прошли сахаристые поля. И вскоре между льдинами появились голубые просветы.
По берегу Чулыма толпились люди. Они показывали на воду и ошалело кричали, но слов нельзя было разобрать из-за треска и грохота огромных льдин, наползавших одна на другую.
Алеша стоял на самом обрыве и щурился от яркого солнца. Ледоход он видел впервые. Это было впечатляюще.
Чья-то рука сзади легла на плечо Алеши. Он быстро повернулся и увидел Веру. Она улыбалась ему. Казалось, что Вера нисколько не озабочена предстоящим спектаклем. Лишь радовалась встрече с дорогим ей человеком, для нее не существовало ничего больше на всем белом свете.
Алеша почувствовал слабый запах ее духов. И у него то ли от этого запаха, то ли от чего-то другого слегка закружилась голова, когда они вышли из толпы и направились к театру.
— Снова сюда? — остановилась она у театрального подъезда. — Не хочу. Вечером, но не сейчас. Пойдем лучше вон туда, — она показала на противоположный конец города, где на холме виднелась березовая роща.
Они шли, и Алеша смотрел на нее украдкой. А Вера тихонько посмеивалась.
— Чему ты? — спросил он.
— Весне, — сказала она и поджала свои влажные губы.
На холме когда-то было кладбище. Его опоясывала ограда, выложенная из красного кирпича. Могилы давно сравнялись с землей, еще в двадцатые годы комсомольцы намеревались сделать рощу местом отдыха. Но, говорят, сколько ни играл на горе коммунальный духовой оркестр, он не привлек туда ачинской молодежи. Видно, тени усопших отпугивали парней и девчат.
Сейчас холм сочно зеленел от набиравшей силу травы. На ветвях берез, еще голых, но готовых дружно выстрелить почками, посвистывали пичужки. И птичьи песни, вместе с зеленью полян и голубым простором, открывавшимся взору, звучали симфонией. И не было у этой симфонии ни начала ни конца.
Опершись рукой о гладкий, белый ствол березы, Вера долго, не отрываясь, глядела вдаль. Ей были видны поля и перелески за рекою, и улицы города до самых дальних его окраин, и поезда, спешащие к далеким станциям. Верины тонкие ноздри раздувались и вздрагивали.
— Алешенька, — сказала она, не поворачиваясь к нему, — сегодня я многое поняла, о чем даже не догадывалась никогда. Счастья не нужно ждать, само оно не придет. Никогда! Нужно идти ему навстречу. И я иду.
— Мы оба идем навстречу счастью, — задумчиво произнес Алеша.
— Не знаю, — лукаво проговорила она, сверкнув в его сторону глазами. — Сегодня я сделала еще один шаг. Я сказала ему, что люблю тебя и что ничего с собой не поделаю.
Алеша повернул ее лицом к себе и поцеловал в губы.
В театр они пришли намного позже назначенных шести часов. Их уже искали. Спрашивали об Алеше в редакции. Посылали за Верой домой, но ее дом был на замке. Агния Семеновна, встретив их в фойе, укоризненно развела руками:
— Ну как же так! Ну как же так!..
Демидов в клетчатом костюме Аркашки, с отвисшей нижней челюстью пританцовывал на лестничной площадке:
— Только не волноваться!
От него за пять шагов несло валерьянкой. Когда он сел гримироваться, пальцы у него прыгали, и он еле натянул на голову рыжий парик.
— Не спорьте, дорогие мои. В споре не только рождается, но иногда и умирает истина. Не надо, — со слезами на мутных старческих глазах убеждал он.
Но никто не спорил. Гримировались молча. Лишь Агния Семеновна, несколько успокоившаяся, наказывала очкастому помрежу Сереже:
— В начале второго действия притушите свет. Затем потихоньку выводите его. Ярче, ярче…
В фойе понемногу нарастал шум людских голосов. Это значило, что в театр стали прибывать зрители. Потом захлопали сиденья в зале.
Спектакль начался без опоздания. Когда распахнулся занавес, гул в зале стих. Только на галерке раздраженно басил кто-то, искал, очевидно, свое место.
Публика принимала спектакль пока что весьма сдержанно. Но Демидов, как только мог, успокаивал всех, кто был за кулисами:
— Сорок лет играю в «Лесе» и, поверьте мне, всегда так. Тут любую знаменитость выпускай — не сорвет аплодисментов. А вот посмотрите, что будет дальше.
Он оказался пророком. Уже во втором действии зал то мертво притихал вдруг, то взрывался хлопками и поощряющими возгласами. Зритель бурно встречал почти каждую реплику Алеши. Негодование сменялось радостью, радость — досадой.
— Нормально идет, ребята, — шептала сияющая Агния Семеновна.
В антрактах из публики прибегали к Соне восторженные девицы. Они обнимали Соню и щебетали без умолку:
— Чудесно, чудесно! Петр Петрович сидит за нами и со смеху покатывается! А Мария Михайловна всплакнула. Говорит, что не хуже, чем до войны.
Воспрянувший духом Демидов в одном из антрактов рассказал историю, случившуюся с Шаляпиным на гастролях в Лондоне. Шел «Фауст», в котором певец исполнял партию Мефистофеля. Поначалу все было гладко. Однако нашелся хорист, который взял ту же ноту, что и знаменитый певец. Грех невелик. Но Мефистофель рассвирепел и запустил в хориста стулом.
— Да, можете мне верить, — Демидов окидывал комнату царственным взглядом. — Я отдал всю свою жизнь искусству.
— А хорист так и стерпел обиду? — с интересом спросил Алеша.
— Хорист стерпел, да его друзья возмутились. И решили они устроить знаменитому басу обыкновенную вздрючку. Вы знаете, как это делается. И когда он ехал после спектакля в карете, хористы остановили лошадей, вытащили его на мостовую и пересчитали ему ребра…
— Это ценно, — заметил железнодорожник Витя Хомчик.
— Если кому-то из вас придется быть на вершине славы, будьте скромными, не заноситесь, не унижайте человеческого достоинства, — сказал Демидов.
Когда спектакль окончился, кружковцев долго не пускали со сцены. У Агнии Семеновны на глаза навернулись слезы.
Потом за кулисами целовались все, поздравляя друг друга с премьерой.
— Ты счастлив, Алешенька? — спросила Вера.
— Очень, — Алеша взял ее за круглые, совсем девичьи, локти.
— Я сегодня домой не пойду. Не хочу. Я буду ночевать здесь, в театре.
Кружковцы ехали на рудник. Маленький паровоз сипел и тяжело пыхтел на подъемах. Он тащил длинный состав из порожних платформ, на которые грузили руду. Одну из платформ, что почище, и облюбовали артисты. Они сидели на чемоданах с реквизитом, и сырой встречный ветер нещадно трепал их волосы. Говорили о премьере, вспоминали все подробности.
— В одном месте я споткнулась. Вы заметили, да? — говорила счастливая Соня. — Стою и не знаю, что сказать. Все забыла. И Витя лицом к публике. Ему никак нельзя подсказать мне. А суфлера совсем не слышу. Ни одного словечка! Ну, думаю, конец. Уже и глаза закрыла от позора. А как закрыла, так и вспомнила сразу.
Демидов, укутанный в стеганку и платки, высунул из тряпья свой свекольный нос и посоветовал:
— В таких случаях, Сонечка, возвращайтесь к сказанным репликам. Варьируйте их. Партнер все поймет и подключится. Ставили мы до войны, уж не помню, какую, пьесу про шпионов. Наш чекист у таежного костра арестовывает вражеского разведчика. Перед этим идет большая сцена. Так, понимаете ли, актер, который играл чекиста, в этот момент уснул. Он прошлой ночью не спал, пьянствовал. А тут, видно, похмелился, его и сморило.
— Ну и как же? — потянулась к Демидову Соня.
— Шпион поднимается и бежит, а задержать его некому. Вот положеньице, милейшие! Надо давать занавес. Но это ж будет всемирный скандал. Наш театр могли вдрызг раскритиковать. Вы поняли меня? Чекисты спят… И выручил всех помреж. Он из-за кулис палкой толкнул в бок чекиста и тот вскочил. А шпион снова выбежал на сцену, как будто что-то забыл у костра. И вот тогда-то чекист выхватил пистолет и закричал: «Вы думаете, когда-нибудь чекисты спят? Они никогда не спят!» Так еще и аплодисменты были. И театралы потом восхищались. Вот, мол, как здорово решили сцену у костра. Актерская находка! Да-с!
Уныло, будто нехотя, постукивали на стыках колеса. Уплывали назад, к Ачинску, начинавшие зеленеть кусты, а за ними тянулись бурые вспаханные полосы, на которых изредка можно было увидеть тракторы и лошадей с сеялками. Кое-где на свежей траве паслись худые коровы, с торчащими ребрами.
Вера глядела на поля, на телеграфные столбы, что тянулись совсем рядом с железной дорогой, на неугомонных сорок, что охорашивались, присев на вершины молодых березок. Она, казалось, не слышала демидовского рассказа. Не улыбнулась и даже не повернула головы.
Алеше стало тревожно. Может, что случилось с ней? Где она тогда ночевала? В театре?
Словно прочитав в Алешиных глазах все эти вопросы, Демидов заговорил с Верой:
— Сникла наша примадонна?
— Я плохо спала сегодня, — слабо улыбнулась Вера.
— Она очень плохо спала, — подтвердила Агния Семеновна. — Мы обе плохо спали.
Демидов поправил на голове разноцветные платки:
— Так вон что! Значит, Вера ночует у вас?
— У меня, потому что дома у нее никого нет, — объяснила Агния Семеновна. — Муж ее искал после премьеры. Приходил в театр. Ну, а я откуда знаю?..
Агния Семеновна вопросительно посмотрела на Веру, но та не отрывала взгляда от придорожных кустов. И Алеша понял, что Вера ушла от Ванька, совсем ушла. А тяжело ей сейчас потому, что не знает она, как быть дальше. Ведь это Алеша должен решить, она ждет его решения.
Чувствуя свою вину перед ней, Алеша попытался развеселить Веру. Он подсел к ней и стал вспоминать школьные смешные истории. А помнит ли Вера, как ребята принесли в класс ужей и сунули их девочкам в портфели? А как рвались нитроглицериновые шарики, когда преподаватель немецкого языка с журналом под мышкой входила в класс и бралась за спинку стула? Она пронзительно визжала при каждом таком взрыве. А помнит ли Вера, как звали преподавателя ребята?
— Конечно, помню. — У Веры скривились уголки губ. — Ее звали Умляут.
Снова завозился на чемодане Демидов. Наклоняясь к уху Агнии Семеновны, прокричал:
— Что значит, милейшая, наша с вами актерская закваска? Иногда и волнительно, но не так, чтобы очень. К чему излишние волнения? Это молодежь — ах, ах, ах!
Поезд подходил к руднику. Потянулись карьеры с обнажениями красной глины, жилые бараки, рудничные постройки. Справа побежал забор с колючей проволокой наверху, со сторожевыми башнями. Витя Хомчик понимающе присвистнул:
— Заключенные.
— Большой лагерь, — заметил Алеша.
— А то как же! Не бывает суток, чтобы с запада бандюг не подвозили. Больше власовцы, — сказал Витя.
Рудничный поселок был небольшой, но сильно разбросанный по склонам холмов. От станционной будки до клуба пришлось идти не меньше километра. Шли напрямик, по тропинке, которая петляла в кустах таволги. Тяжелые чемоданы оттягивали руки, и артисты часто останавливались, чтобы перевести дух.
Вера хотела помочь Алеше нести чемодан, ведь у Алеши болит нога. Но он отказался от ее помощи:
— Молодец ты, Вера! А это я сам донесу.
— Почему ты решил, что я молодец? — Вера вскинула на него пристальный взгляд.
— Вечером скажу. После спектакля, — Алеша ускорил шаг.
Как всегда в рудничных поселках, люди долго собирались в клубе. У одних запоздала пересмена, другие только что узнали о приезде артистов, а идти домой с работы многим было далеко. Нужно и переодеться: не пойдешь на спектакль в спецовке.
Но мало-помалу зал заполнялся. Люди захватывали места поближе к сцене. Лишь первые четыре ряда стульев никто не занимал. На эти места не пускала маленькая белокурая девушка.
— Для кого? — кивнув на стулья, спросил Алеша у заведующего клубом.
— Да тут… понимаешь… — махнул рукой тот. — Власовцев приведут, которые хорошо работают. В порядке поощрения. А я б их взорвал в карьере вместе с рудою. Так и смотрят на тебя волком. Особенно бандеровцы.
Алеша ушел гримироваться в маленькую комнатку за сценой. Соня шептала трудные места роли. И опять ее успокаивал, пританцовывая перед настольным зеркальцем, Демидов:
— Только не волноваться! — А у самого уже отвисла челюсть.
У Агнии Семеновны что-то не ладилось с оборками на платье, и она нервно ковыряла иголкой. Соня отложила тетрадку с ролью и поспешила ей на помощь. А помреж Сережа подскочил с другой стороны:
— Все готово, Агния Семеновна. Давать второй звонок?
— Они ждут власовцев, — бросил Алеша через плечо.
— Власовцев привели.
— Давай, Сережа, второй, — распорядилась Агния Семеновна.
По сцене торопливо простучали чьи-то каблуки и замерли у двери в гримировочную. Алеша оглянулся. В дверном проеме стояла Вера, растерянная, с округленными глазами.
— Что случилось? — невольно привстал Алеша.
— Там… там… — она задыхалась. — Там Петя Чалкин. Петер.
— Где? — не сразу сообразил Алеша.
— С власовцами. Пойдем-ка. Не могла же я ошибиться!..
Алеша как был недогримированный, так и бросился следом за нею. Чуть отодвинув занавес, чтоб только образовался маленький просвет, Алеша посмотрел на первые ряды. Среди мрачных, наголо остриженных людей он почти сразу увидел Петера. Петер сидел, съежившись и скрестив на груди руки. На его лице была смертельная усталость, лицо застыло, как маска.
В маленькую дверцу, что вела на сцену из зрительного зала, просунулась голова заведующего клубом:
— Пора начинать. Все в сборе.
— Подождите. Мы еще не готовы, — бросился к нему Алеша. — А кто привел власовцев?
— Есть тут майор, а что?
— Пригласите его сюда. Нам он очень нужен. Пригласите, пожалуйста.
Майор удивился желанию Алеши поговорить с Чалкиным. О чем толковать с предателями, изменниками Родины? Учились вместе? Тем более. Сам майор в этом случае прошел бы мимо и даже не посмотрел в его сторону. Но если уж так нужно артистам, то майор не возражает.
И вот Петер в сопровождении сержанта, вооруженного наганом, вошел в гримировочную. Острым взглядом пробежал по лицам столпившихся артистов: кому он понадобился?
— Не узнаешь, Петр? — с суровыми нотками в голосе спросил Алеша.
— Леша? Нет, нет… Я не виноват! Меня по ошибке!.. — Губы у Петера затряслись. Он рванулся к Алеше, но тут же сник. Руки повисли, как плети.
— Здесь и Вера. Вот она. Мы живем в Ачинске.
— Вера?.. Я не виноват! Вот честное слово! — глаза у Петера забегали от Алеши к Вере. — А я… Значит… — он поперхнулся, и по его щекам поползли слезы.
— Как же так? Ведь листовка была… Мне показывал ее Илья Туманов. Значит, подлог? — Алеша с досадой взмахнул кулаком.
— Я не изменил Родине… Я не мог бросить на поле боя раненого Васю Панкова! Вместе мы были в плену. Там я сволочь одну задушил, своими руками. За это меня и ненавидят они, отпетые власовцы. Еще по пути сюда убить хотели, — сквозь слезы говорил Петер.
— Но ведь ты должен доказать, что прав! — с болью воскликнула Вера.
— Нужен свидетель. Может, несколько свидетелей. А где я их возьму? Васькиной судьбы не знаю. Жив ли он?.. Вот и выходит, что против меня всё. Главное — та самая листовка… Немцы знали, что делали. Это теперь доказательство моей измены. Помогите мне!.. Найдите Васю Панкова. Пусть он напишет прокурору, как все было… — говорил Петер, разглядывая Алешу, словно хотел навсегда запомнить его таким.
— Хорошо, Петя. Я постараюсь, — пообещал Алеша.
— Сообщите матери, что я жив. Нам писать домой запрещают.
Эти слова явно не понравились сержанту, и он взял Петера за рукав и бесцеремонно толкнул к двери:
— Хватит. Все вы невиновные, суки!
В течение всего спектакля настроение у Алеши было подавленным. Он ходил по сцене, говорил текст, а думал о другом. И когда смотрел в зрительный зал, видел только сникшего Петера и больше никого.
— Мы обязаны что-то сделать. Конечно, если он сказал нам правду. А я верю ему, — прошептала Вера по дороге на станцию, к ночному поезду.
— Нужно найти Панкова.
— А что ты обещал сказать мне вечером? — спросила она.
— А то, что я не могу жить без тебя. Если ты согласна, давай найдем квартиру.
— Да, да, родненький мой.
11
Фельетон был опубликован. Когда Алеша утром зашел в типографию, чтобы взять экземпляр газеты, наборщики и печатники встретили его уважительными взглядами. Очевидно, не так уж часто выступала газета с острыми материалами. Худощавый и седой директор типографии, почмокав замусоленную цигарку, что висела в углу рта, процедил сквозь зубы:
— Давно бы их так. Теперь почешется кое-кто. А ты держись, Алеха. Кусать будут.
— Чего с меня возьмешь? — победно усмехнулся Алеша.
— Найдут, что взять. В елькинских валенках многие ходят.
Действительно, в городе наступил переполох. Газету рвали из рук. Ее читали в магазинах, на базаре, на улицах — везде. Зазвенел телефон и у редактора. Едва Василий Фокич после разговора бросал на рычаг трубку, как раздавался новый настойчивый звонок. Вначале он что-то объяснял, потом стал сыпать в трубку равнодушные стереотипные фразы:
— Факты проверены. Можете жаловаться куда угодно. Попробуйте опровергнуть.
Редактора пугали первым секретарем горкома партии. Секретарь, мол, не даст Елькина в обиду. Портрет председателя артели столько лет висит на городской Доске почета! Нет, так дело не пойдет! И почему позволяют какому-то Колобову, которого совершенно никто не знает, писать небылицы о всеми уважаемом человеке? Не слишком ли превратно понимают у нас свободу слова? Ведь этак могут ошельмовать кого угодно.
В редакционном коридоре с утра зашаркали подошвы сапог. Застучали двери. Какие-то личности, незнакомые Алеше, заглядывали в его кабинет и спрашивали редактора. Тем, кто лез на скандал, Алеша задиристо говорил:
— А зачем он вам? Уж не по фельетону ли?
Отвечали руганью или еле сдерживаемым сопением. Алеша смеялся. Затем настойчиво требовали у редактора дать опровержение. Но чем громче шумели, тем спокойнее вел себя Василий Фокич. Алеша даже позавидовал ему. Сам он ни за что не выдержал бы, сорвался и наговорил бы кучу резкостей.
Около полудня к Алеше боком сунулся мужичонка в дождевике. Сощурил глаза. Хмурое, с кулачок лицо вдруг вытянулось, и посетитель прохрипел:
— Дружок? Ты тут работаешь, ай как?
Это был Жучок. Он достал из-за пазухи газету, сложенную вчетверо, и ткнул в нее желтым от курева пальцем:
— Вот. Про меня прописали. Читал?
— Читал, Жучок. Это я писал.
— Ты? — Жучок выпучил мутные, осоловелые глаза. — Не имеешь права! Ты меня с валенками видал? А может, я совсем даже не валенки продавал. И я тебя к прокурору сведу. Как же это так? Значит, что хочу, то и делаю. Нет, идем! — он резким ударом распахнул дверь.
— Будешь, Жучок, бушевать, я выкину тебя отсюда, — сухо и решительно сказал Алеша. Откуда-то изнутри уже шла к рукам нервная дрожь.
Жучок, вероятно, не раз бывал в подобных переплетах. Увидев на щеках и на шее у Алеши багровые пятна, он прикрыл дверь и заговорил потише:
— Ну Елькину так и надо. Его можно и покритиковать. А зачем же нести напраслину на трудящегося гражданина? Выходит, что меня, беззащитного, и обижать надо.
Ужасно болела голова. Перед глазами летели куда-то, часто перебирая крылышками, тучи бабочек. И все бабочки были радужного цвета, и летели они в одном направлении. Только бы не ударить по этой противной спекулянтской морде!
— Ты вот что… — закашлял и тяжело задышал Алеша. — Иди отсюда. Я очень тебя прошу. Иначе я тебя!.. Понял?
Жучок попятился, тощим задом открыл дверь и исчез. Но через минуту его хриплые выкрики донеслись из кабинета редактора:
— Он грозит, шалава! Он убить меня хочет!
«Какая мразь, а тоже жаловаться. И ведь его, чего доброго, будут принимать серьезные люди, а потом станут проверять жалобу. Он знает все законы, жулик», — думал Алеша, спускаясь по лестнице. У него невозможно разболелась голова, и он решил прогуляться по городу.
На тротуарах было больше прохожих, чем обычно. Люди не спешили, кроме школьников, которые с поразительной быстротой сновали взад и вперед, путаясь под ногами у взрослых. На улицах появился чистильщик обуви, чумазый мальчишка лет пятнадцати. Он четко отбивал дробь щетками, подбрасывал и ловил их, как заправский жонглер, приглашал навести глянец.
Алеша направился к реке, но, прошагав немного, повернул назад, к базару. Разговор с Жучком взвинтил нервы. До этого Алеша чувствовал себя чуть ли не героем. Читал и снова перечитывал фельетон о проделках Елькина. Надеялся, что в городе все возмутятся темными делами жуликов и поблагодарят редактора за смелую критику.
Но пока что ничего этого не было. Звонили в редакцию лишь дружки Елькина, а сейчас у Василия Фокича бушевал Жучок. Алеше хотелось остановить первого встречного и спросить его: «А вы фельетон читали? Какой фельетон? Мой. О председателе Елькине. И что вы думаете по этому поводу?».
Прохожий мог, разумеется, и не читать фельетона, но не слышать о нем не мог. Прохожий должен был сказать Алеше хоть одно слово одобрения. Неужели людям безразлично, обворовывается государство или нет. Ведь это обворовывают их самих.
Алеша подходил к базару, когда его обогнали две важные дамы. Они одновременно оглянулись, стрельнули в него глазами, и одна из дам наигранно засмеялась:
— Умник нашелся! — и презрительно поджала тонкие, синие губы.
Алеша остановился. Дуры вы, ну что стоит ваша ачинская круговая порука! Ведь посадят Елькина и дадут ему под завязку. Теперь ни за что не выпутаться ему. Об этом позаботился Алеша, и вы можете теперь фыркать.
У промтоварного магазина бурлила очередь. По какому-то номеру промтоварной карточки давали мыло. Человек в очках и теплом пуловере читал газету. Ту самую, сегодняшний номер. Читал вслух, и рядом стоящие внимательно слушали его. Когда Алеша приблизился к очереди, мужчина уже дочитывал фельетон. Затем свернул и сунул газету в авоську:
— Нужно показать соседям. Очень принципиальное, партийное выступление.
Эти слова воодушевили Алешу. Значит, люди хвалят его. Значит, сделал он доброе дело.
— Есть же честные, которые пишут, — послышалось из толпы.
Алеша, постукивая палочкой по лестнице, взбежал на второй этаж и сразу к редактору:
— Василий Фокич!..
В кабинете сидел Ванек. Он срезал Алешу злым взглядом и схватил со стола фуражку, чтоб уйти. Но, видно, не все было сказано, и он повернулся к редактору:
— Он сам не станет отпираться, что пьянствовал с алкоголиками. Скажи-ка, Колобов, с кем выпивал, когда приехал в Ачинск? Ну?
— Это не имеет значения!
— Еще как имеет!
— Послушайте, товарищ капитан, говорите по существу. Я до сих пор не уясню, чего вам нужно, — сказал Василий Фокич. — Ваше имя есть в фельетоне?
— Нет.
— Так зачем вы пришли сюда? За кого ходатайствуете?
— За себя, товарищ редактор. Он мало того, что пьянствует, а еще… еще… Он занимается развратом! Он увел у меня жену. Вы не знаете, какой он есть!
— Подлец! — крикнул Алеша, шагнув к столу.
— А ну, попробуй, — вскочил Ванек и опять к редактору. — Будьте свидетелем.
Василий Фокич усадил Алешу на свой стул, а Ваньку сказал:
— Вы и в самом деле прохвост, товарищ капитан. От вас ушла жена, а вы явились сюда обливать грязью Колобова. Он выпил кружку пива с человеком, которого и не знал. А вы не один месяц водите дружбу с жуликом Елькиным. И вон отсюда! Чтоб вашей ноги здесь не было!
Ванек рассвирепел. Он замахал руками и прокричал, задыхаясь от бешенства:
— Вы… вы… вам не сидеть в этом кресле… Я… я напишу!.. Я пошлю письмо в Москву!..
— Ваша жена хороший человек. Она молодец, что ушла от вас, — бросил Василий Фокич вслед Ваньку.
Вечером Алеша рассказал Вере о визите Ванька в редакцию. Вера, выслушав его, проговорила со вздохом:
— Он способен на подлость. Но никогда больше не надо говорить о нем. Я тебя очень прошу, Алешенька. Не стоит он того, чтобы о нем говорили. Ладно?
Алеша обнял Веру. Она нежно посмотрела на него:
— Я тебя очень люблю, Алеша. Даже не представляю теперь жизни без тебя. И боюсь за свое счастье. Мне страшно.
— Глупая, глупая Верка из десятого «Б», я ведь тоже тебя люблю.
— А верно, что я глупая?
— Верно, потому что задала этот вопрос, — плотнее прижимая ее к себе, ответил он.
Вера рассказала, что она ходила в библиотеку. Не за книгами, а устраиваться на работу. И ее приняли библиотекарем в читальный зал.
— У меня будет хлебная карточка служащего и семьсот рублей в месяц, — с гордостью сказала она. — И еще ты будешь, родненький мой.
Вера нашла маленькую, но вполне приличную комнатку у соседей Агнии Семеновны. Цена терпимая. А в комнатке есть столик, стулья и койка с матрацем и подушкой. Уже сегодня можно ночевать.
— Видишь, как все хорошо устраивается! — в глазах Алеши вспыхнули смешинки.
Алешу вызвали в горком комсомола. Кроме Сони, в ее кабинете был мужчина в военном кителе, чистенький, гладко выбритый. Он держал себя официально. Как понял Алеша по ходу разговора, мужчина занимал должность секретаря горкома партии по кадрам.
Соню словно подменили. Всегда такая ласковая, предупредительная и даже робкая в отношениях с Алешей, на этот раз она заговорила с некоторым раздражением, словно Алеша ей давно надоел какими-то скверными выходками. Она называла его теперь товарищем Колобовым. Она сидела напротив, надутая, со сморщенным лобиком. Ей, видно, хотелось попугать Алешу, а тот, едва сдерживал себя, чтобы не расхохотаться.
— Мы вот тут посовещались и решили серьезно побеседовать с вами, товарищ Колобов. Прежде всего, о фельетоне. Вы ввели меня в заблуждение. Вы работали в редакции, а я устраивала вас на новую должность…
Девушка явно боялась отвечать за телефонный звонок Елькину. Но ведь Алеша дал ей слово, что примет всю вину на себя. Чего же еще?
— Вы вели расследование недозволенным методом, — сказал секретарь горкома партии. — Так не должны поступать редакционные работники. Это позорно и недопустимо для советской печати!
— А вам что, Елькина жалко? — грубовато спросил Алеша.
Секретарь горкома резко повысил голос:
— Не забывайте, где вы находитесь, Колобов.
— А вы на каком фронте воевали, товарищ? — криво усмехнулся Алеша.
Секретарь сорвался с места, застучал кулаками о стол, затопал. Он обозвал Алешу хулиганом, грозил ему милицией. Он тут же позвонил Василию Фокичу и крикнул в трубку телефона:
— Уволить, немедленно уволить Колобова! Нам не нужны разгильдяи!
Редактор, видимо, возражал. Тогда секретарь сказал, что он перейдет сейчас на другой телефон. Не хотел спорить с редактором при Алеше.
Когда секретарь горкома хлопнул дверью, Соня с укоризной сказала:
— Вот видишь, пожалуйста. И это не всё.
— А что же еще? — иронически посмотрел на нее Алеша.
— Заявление Вериного мужа. Раз оно поступило, мы не можем не реагировать, — и вдруг Соня сразу обмякла и стала прежней. — Пойми меня, Алеша. Запутали вы меня. По твоей просьбе я звонила Елькину. В драмкружке я тоже участвую…
— Что случилось, Соня? Объясни толком.
— Во-первых, говорят, что ты нарочно выискиваешь теневые стороны. Ведь ты раскритиковал передовое предприятие! Во-вторых, говорят, что ты не имеешь морального права печататься в газете.
— Ну это говорят другие, а ты как думаешь?
— Я думаю, что вообще-то… Ну мог же ты согласовать фельетон с горкомом! Ведь прошелся-то по самому Елькину!..
— Всё, Соня? — Алеша надел фуражку и решительным шагом пошел к двери.
Соня забежала вперед и встала на его пути. Жалобно попросила:
— Наверное, ты прав. И не обижайся на меня. Я не могу иначе.
— Можешь, — твердо сказал Алеша.
— Ты считаешь?
— Да. Считаю.
— Ты напрасно упрекнул его. Ну насчет фронта… Он же партийный работник.
— А что, партийные работники только в тылу? Ладно, Соня, я не сержусь на тебя.
— Вы поженитесь с Верой, да? — совсем тихо спросила она.
— Конечно. Я давно люблю Веру. Впрочем, зачем я говорю это? Тут ни ты, Соня, и никто другой не помешают нам.
— А мы и не собираемся мешать. Но ведь надо разобраться, если письмо поступило. Ведь за каждым письмом…
— Стоит живой человек, — продолжил её мысль Алеша. — Так, что ли? А если этот человек подлец, если у него нет ни капельки чести? Что тогда?
— Но ведь мы не можем так говорить о советском человеке…
— Да какой он советский! — брезгливо поморщился Алеша.
Разговор в горкоме комсомола вконец расстроил его. Из кабинета Сони он вышел с желанием уехать куда-нибудь. Всё ему казалось теперь в деле Елькина непонятным, совершенно запутанным. Может, действительно Алеша сделал что-то не так. Нет, надо уезжать отсюда.
Но Василий Фокич остудил горячую Алешину голову.
— Ты рассуждаешь примерно так: написал-де фельетон, обозвал ворюгами людей, которых в городе знали, как порядочных. И хочешь, чтобы сразу все приняли твою сторону. Чтобы немедленно арестовали Елькина и всех других героев фельетона и завтра же осудили. Чтобы тебе поклонились в пояс наши городские руководители. Дудки! Думаешь, им приятно сейчас, что не сами они схватили за руку мошенников? Нет. Поэтому наберись терпения. Слушай, что тебе говорят, мотай на ус.
— Но ведь он же приказал уволить меня! — вырвалось у Алеши.
— Никто тебя не уволит. Только что я говорил с первым секретарем горкома. В пимокатной артели с утра сидят ревизор и следователь. Чего ж тебе еще?
— Но почему этот жал на меня?
— Да пойми ты, чертушка такой, они Елькина знают много лет. Да-да! А ты в Ачинске без году неделя. Теперь узнают и тебя.
— Ладно уж, — засопел Алеша.
— Ну, а как с женой? Кстати, где она?
— Мы нашли квартиру.
— Может, нам выпить на новоселье? Я водчонки найду. А директора типографии прихватим?
— Пожалуйста, — охотно согласился Алеша. — Не возражаю.
— Жена заругается?
— Да что вы! Она будет очень довольна.
Вера встретила их радостно и растерянно. Ей было неудобно за неуют комнаты. Но Алеша привел друзей, и это было для нее счастьем. Ведь они теперь и ее друзья.
— Хороша, — пробасил директор типографии, когда Вера выскочила на кухню.
Она накрыла стол взятой у хозяйки скатертью. Поставила чашки с хлебом и жареной картошкой. Принесла квашеной капусты.
«Это — доброта хозяйки, но, прежде всего, Верины заботы. Как ей хочется услужить нам! Какая она умная и милая», — думал Алеша, наблюдая за тем, как она хозяйничает у стола.
Василий Фокич разлил водку по стаканам. Сколько мужчинам, столько и Вере. Она изумленно посмотрела на свой стакан и перевела взгляд на Василия Фокича:
— Да что вы! Я ведь совсем не пью. А этой дозой можно убить коня.
— Пожалуй, — согласился директор типографии.
— Я предлагаю выпить за боевое крещение журналиста Алексея Колобова. Оно прошло у него как по маслу! — предложил Василий Фокич.
— Хорошенькое масло! — возразил Алеша.
— А ты хотел, как Цезарь: пришел, увидел, победил? Так, что ли?
— Вроде так.
— Журналист должен делать свое дело спокойно, и с дальним прицелом. Да-да! Он, как никто, работает на будущее.
— Вот какой ты у меня! — шутливо воскликнула Вера.
— За мужа, надеюсь, выпьете? — сказал Василий Фокич.
— За мужа выпью, — Вера чокнулась со всеми и пригубила стакан.
Директор типографии вскоре опьянел. По комнате поплыл храп. Василий Фокич толкнул старика в бок. Но Вера запротестовала:
— Пусть спит.
Директор типографии будто услышал Веру. Он стал выводить носом такие трели, что Алеша сказал:
— А ведь весело без патефона. Хоть пляши.
Василий Фокич еще побеспокоил старика, и тогда тот, не открывая глаз, заговорил:
— Мы в Кургане вместе со Всеволодом Ивановым были. Работали наборщиками. Потом он стал писателем, а я — читателем. Он — пишет книги, а я ничего не пишу. Не умею. Я больше по технической части. Вот и рассуди нас: кто прав, кто виноват.
— Вы оба правы, — сказала Вера.
— Оба не могут быть правы, потому что он пишет книги, а я не пишу. Я больше по технической части, — и смолк, и захрапел снова.
12
Постучали в калитку, потом в ставни. Сквозь сон Алеша слышал, как протяжно заохала, поднимаясь с постели, хозяйка. Как она отвечала кому-то через закрытое окно и тут же вышла на крыльцо. Алеша почувствовал рядом ровное дыхание Веры и успокоился. Мало ли по каким делам могли прийти к хозяйке. И вдруг в прихожей истошный крик:
— Вставайте, милые! Скорее вставайте!
Алешу кольнуло в сердце. Он подумал, что где-то рядом пожар. Может, загорелся сарай, что примыкал к дому и был захламлен мхом, деревянными стружками и еще бог весть чем.
— Что случилось? — испуганно спросила Вера, садясь на постели.
— Победа, милые мои! По радиву передали. А это техничка за Алешей. На работу его зовут. Господи, да неужто она, проклятая, кончилась? Да неужто вернется ко мне сыночек Володенька? Господи!
Алеша быстро оделся. Посмотрел в прихожей на ходики. Было около семи. Вернулся в комнатку. Вера все еще продолжала сидеть в постели. Она протянула к нему теплую руку, он схватил ее, поцеловал. Вера привлекла Алешу, обняла за шею и зашептала в самое ухо:
— Поздравляю тебя, мой любимый солдатик. Теперь уже никто и ничто нас не разлучит.
Утро было ясное, искристое. Все, что могло блестеть на солнце, полыхало ярким огнем. Даже роса, не успевшая просохнуть на крышах домов, на заборах и траве, радужно переливалась, как россыпь камней-самоцветов. Казалось, весна приберегла для этого утра самые сочные свои краски.
Город охватила радостная суета. Похлопывали двери домов, поскрипывали калитки. Люди торопились куда-то, сияющие, пьяные без вина. Босоногие мальчишки стайкой обогнали Алешу:
— Дяденька, победа!
Сердце у Алеши пело. Казалось, все прочие земные радости ничто по сравнению с этой. Победа! Глаза застилались слезой, и в памяти вставало пережитое.
Скуластый и черный от пыли Кенжебаев на четвереньках вылезал из разрушенного окопа, кряхтел и плевался. Это было в ночь Алешиного боевого крещения, даже не ночью, а на рассвете. Пыль, оседая, редела, и все краснее становился плоский солнечный диск.
Из разведчиков вспомнил Алеша Кудинова, манерную, хитрую его ухмылку при знакомстве. И совсем иным был Кудинов перед наступлением: раздумчивым, грустным. Словно чувствовал человек свою скорую гибель. Нужно будет обязательно съездить к его семье или написать.
А от Бабенко до сих пор нет ответа. Или письмо не нашло его или не хочет Бабенко ничего сообщать Алеше. А жива ли Наташа вообще? Ведь ей оторвало ногу. В таких случаях нужна срочная операция. Попала ли Наташа вовремя на стол к хирургу?
Прежде Алеше казалось, что он любит Наташу. Но встретил Веру, и Наташа стала понемногу уходить в тень. Ведь у него не было к ней большого чувства. А Веру он любил всегда. Отношение Алеши к Наташе было отзвуком Наташиного чувства. Теперь же Алеша жалел ее, как дорогого ему человека, разделившего с ним трудности войны. И в то же время Алеше казалось, что он в чем-то виноват перед ней. Ему было неловко за свое счастье.
Окна квартир были распахнуты настежь. И отовсюду рвалось на улицы, разносилось по городу:
— Акт о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии…
Вот и всё! Не быть больше бомбам, не грохотать орудиям. Вернутся домой бойцы, кто уцелел, и пойдет совсем другая жизнь. Прекрасная — лучше довоенной.
— Полная и безоговорочная капитуляция, — шептал Алеша сухими, солеными губами.
На главной улице — у редакции, у аптеки и театра — кипели толпы людей. Горланили фронтовики. Их расспрашивали о событиях двух- и трехгодичной давности. И все, о чем они говорили, казалось очень важным. Потому-то, отталкивая локтями друг друга, пробирались к ним.
У самого крыльца редакции размахивал худыми и длинными руками инвалид с деревянной ногой. Он уже успел хватить самогона. Плакал и целовался со всеми, повизгивая:
— А мы его ря-яз! А ён нас тра-та-та! А мы его из пушки — гох, гох! Спектакля была удивительная. Когда ж окопы немецкие заняли, дышать нечем было.
— Да ну!
— Мутило, нутро выворачивало!
— Это у них завсегда в окопах вонь, — пояснял парень со шрамом через весь лоб. — Они порошком вошь травят.
— Да какой тебе порошок! Дерьмом воняло, — пояснил инвалид на деревянной ноге. И обвел толпу торжествующим, орлиным взглядом. Заметив в толпе Алешу в военной гимнастерке, потянулся к нему: — Браток! — и тут же разревелся.
Алеша поцеловал инвалида в небритую, мокрую от слез щеку. Поймал ноздрями идущий от него запах водки и лука. Бросился на крыльцо. А там танцевал на цыпочках, стремясь разглядеть получше все, что творилось вокруг, актер Демидов. Он обнял Алешу, ткнувшись ему в грудь мокрым и красным носом.
— Необыкновенная радость! — заговорил он дрожащим голосом. — Будут теперь в городах театры, будут великолепные сборы! И я еще сыграю в Ачинске Шмагу… «Мы артисты, наше место в буфете»… Да! — он выпятил нижнюю губу. — А вы, Алеша, могли бы попробовать Незнамова. Впрочем, я вижу вас Муровым, этаким классическим соблазнителем…
— Я спешу, Александр Георгиевич! — нетерпеливо махнул рукой Алеша.
В кабинете редактора на полную мощность хрипел старый, довоенного образца приемник. У него хватало сил лишь для того, чтобы взять самые ближние станции. Сейчас говорил Новосибирск. Передавали для газет последние известия: не спеша и повторяя по нескольку раз трудные слова.
Василий Фокич был весь внимание. Он молча кивнул Алеше и показал на стул. Но Алеша не сел, а подойдя к окну, стал наблюдать за переливавшимся на улице людским потоком. В этом зрелище было что-то похожее на то, что видел Алеша в Алма-Ате в первый день войны. Но тогда впереди была неизвестность.
Под самым окном толпа вдруг расступилась, вытолкнув в круг гармониста. Он отбросил кудри, падавшие на лоб, и заиграл плясовую. А из толпы выскочила молодая пьяная баба в кирзовых сапогах, пронзительно вскрикнула и закружилась, поднимая облако пыли.
«Где-то сейчас радуются победе Костя и Тоня, Ахмет и Лариса Федоровна. Радуется историк Федя», — подумалось Алеше.
А Петеру должно быть горько. Обидно, если все, что говорил он, правда. Алеша написал Ларисе Федоровне. Она узнает у ребят хоть что-нибудь о Ваське Панкове. Теперь будут возвращаться солдаты с фронта, приедет и Вася, коли жив. А не приедет, то кому-то пришлет письмо.
— Сейчас начнут передавать, — прервал Алешины думы Василий Фокич. — Вот тебе бумага, карандаш, садись и принимай.
К полудню специальный выпуск газеты был отправлен в типографию. Алеша освободился от дел, заспешил в библиотеку. Возбужденные люди пели, плясали и просто толкались на тротуарах и мостовой. Неожиданно вынырнуло осунувшееся лицо Жучка. Несмотря на вешнее тепло, Жучок был в своем неизменном дождевике. Он рассыпался дробным, ехидным смехом:
— Что, законник, не вышло? Имел желание погноить меня в тюряге? А тут оно и сорвалось.
— Почему ж сорвалось? — сощурился Алеша.
— А потому, как объявят амнистию по случаю победы. Ты думал, так просто упрятать меня за решетку? Не-ет, Жучок тоже не дурак.
Алеша испытывал гадливость к этому опустившемуся человеку. Вон как торжествует, что его шкуру спасут или уже спасли фронтовики на полях сражений! Неужели Жучок окажется прав, что будет ему и другим жуликам амнистия. Но разве это справедливо? Нет, надо, чтоб они отвечали за свои преступления.
— Знаешь что, Жучок… Амнистируют только тех, кто воевал. А ты ведь всю войну просидел в тылу. По тебе тюрьма скучает, — сказал Алеша.
— Врешь, шалава! Амнистия выйдет всем, всем! Вот увидишь, законник.
Работники библиотеки тоже высыпали на крыльцо. Сегодня к ним никто не шел, как, впрочем, и в другие учреждения. Всех звал праздник на улицы, на пятачок у редакции, где безудержно лилось через край шумное веселье.
А Веры на крыльце не было. Когда Алеша спросил о ней, курносая библиотекарша, многозначительно растягивая слова, сказала:
— Она там. Ей не очень здоровится.
Что за чертовщина! Утром Вера чувствовала себя прекрасно. Что же случилось? Библиотекарша определенно чего-то не договорила. Неужели у Веры какая-то неприятность по работе?
Алеша стремительно прошел в читальный зал. Вера сидела у окна, покусывая уголок носового платка. Лицо ее и шея горели большими красными пятнами. Она поднялась навстречу встревоженному Алеше. Уткнулась головой в его плечо:
— Давай уедем отсюда. Будем жить где угодно, только не здесь! Уедем, Алеша, — и вдруг расплакалась.
Он ласково погладил ее щеки:
— Успокойся, Вера. Если надо, уедем.
Он ни о чем не спрашивал. Ждал, когда расскажет сама. И вдруг догадался: сюда приходил Ванек! Конечно, лучше уехать, подальше уехать отсюда. Вера не любит Ванька, но он будет постоянно ходить за ней. А это невыносимо!
— Он был пьяный. Обругал меня… Лез драться.
Ну, Ванек! Счастье твое, а может быть, и Алешино, что не встретились здесь. Не очень весело кончилось бы это. Вот так, бывший дружок! Алеша не позволит, чтобы кто-то тронул Веру.
— Мы что-нибудь придумаем, — тихо сказал не столько Вере, сколько самому себе.
Вечером договорились, что он разузнает у редактора, куда лучше поехать. Василий Фокич должен посоветовать. Он не первый год жил в Красноярском крае, у него есть знакомые журналисты.
Разговор с редактором состоялся. Он был нелегким. Василий Фокич рассердился не на шутку, долго бегал по кабинету, фыркал, вытирая ладошкой выступавший на лбу пот:
— Летун ты самый настоящий! Да-да! Ему не нравится городская газета! Да я начинал в такой дыре, что тебе и не приснится. А это — город!
— Как знать, Василий Фокич, — сказал Алеша. — По-моему, в той дыре лучше…
— Это у тебя от обиды на плохих людей. А ведь есть здесь и хорошие. И город вовсе не виноват в том, что у тебя что-то не клеится. Горяч ты, Алеша.
— И все-таки я уеду.
— Дурной ты! Ну уж ладно! Если на то пошло, я тебе устрою командировку. Сейчас же позвоню в краевую газету. Там охотно дают командировки местным журналистам. Поедешь, напишешь очерк или статью, а заодно и местечко себе присмотришь. Только я по-прежнему против категорически.
На той же неделе Алеша уехал. По расписанию поезд уходил из Ачинска во втором часу ночи. Но он запоздал почти на три часа. Так и проходили в ожидании поезда всю ночь по перрону Алеша и Вера, которая во что бы то ни стало решила проводить мужа.
— Я все равно не смогу сегодня уснуть, — как бы оправдываясь, говорила она.
— Но завтра тебе на работу, — возражал Алеша.
— Что ж, как-нибудь… Отработаю день, не поспав. И ничего тут страшного нет.
И такая мольба была в ее широко раскрытых, устремленных на него глазах, что Алеша согласился. Вера волновалась так, словно он покидал ее навсегда. Счастье казалось ей еще очень зыбким и неопределенным.
Ночь выдалась светлая и теплая. Звезды были большие, сочные. Где-то далеко, на самом краю станционного поселка, лениво побрехивали собаки.
— Хорошо-то как! — вздыхала Вера, припадая к Алеше.
Негромко переговариваясь, прошагали железнодорожники с фонарями. Вера смотрела им вслед до тех пор, пока их сутулые фигуры не растаяли во мраке и не остались маячить на путях лишь слабые желтые огоньки стрелок.
— И люди вот так же. Пройдут по жизни, посветят и погаснут, — в раздумье сказала она.
Алеша не сразу понял Веру. А когда до него дошел смысл ее слов, сказал:
— Светят не все.
— Ты о другом, Алеша.
— Да, я о другом, — согласился он. — Но что толку, если человек существует, как животное? Все о себе, все для себя.
— А дети?
— Что дети? Они и детей воспитывают в том же духе. Ты должен прожить легче других. Вот и вся философия.
Посвистывая, подошел поезд. Как мухи на мед, на него налетели мешочники. Каждый лез напролом, иначе не сядешь. А до следующего поезда — целые сутки. Здесь не существовало никаких очередей, все зависело от силы и ловкости. Алеша с трудом вклинился в толпу, его прижали, отбросили в сторону, но толпа колыхнулась снова, и он оказался рядом с проводником. Это была удача.
Уже рассвело. Отсветы зари играли на стенах вокзала, на кряжистых тополях, что росли в палисаднике у вокзального здания, на лицах толпившихся на перроне людей. В окно вагона Алеша увидел Веру. Она сиротливо стояла неподалеку и махала ему платочком. И Алеше пришла мысль, что вот так же совсем недавно провожали бойцов на фронт. А теперь он едет всего на несколько дней, едет в тихие, мирные села, и у Веры, конечно, то же чувство тревоги и боли. Видно, разлука всегда тяжела, если любишь. А Вера любила его. Это он знал.
Алеше нестерпимо захотелось открыть окно и втащить ее в вагон, чтоб уехать им вместе. Но он тут же махнул ей рукой, чтобы Вера уходила, и принялся искать по вагону свободное место. Разумеется, его не оказалось — хотя бы краешка полки, где можно сесть, — и Алеше пришлось поднять спавшего бородача. Тот не хотел убирать ноги с полки, что-то сердито бурчал себе под нос. Однако Алешу поддержали пассажиры, что стояли в проходе, и бородач сдался.
О Хакасии Алеша слышал мало. Он знал, что она где-то на юге Сибири, что там есть и степи, и тайга. Но в обжитой части Хакасии больше степей. Говорили о косяках коней, о хакасских шаманах, о мясистых помидорах величиной с блюдце, их можно купить сколько хочешь на базаре в Абакане. Вот, пожалуй, и все сведения, которыми располагал Алеша, если не считать рассказов о хакасском курорте Шира.
Абакан оказался пыльным одноэтажным городом. Здесь стояла жара, деревья уже зеленели. В тени тополей на привокзальной площади дремали, отвесив нижнюю губу, некрупные лошадки под седлами. У заборов, да и посреди площади, топорщилась зеленая щетина дикого ириса.
Еще в поезде Алеша узнал, что в Абакане есть МТС. И прямо с вокзала он пошел на высокую трубу, которую ему показали. Идти пришлось по пыльному тракту, затем Алеша свернул в поле. Дорога здесь была вязкая, и он с трудом осилил ее.
Контора МТС была в маленьком белом домике, возле которого подрагивала и воняла бензином изрядно побитая полуторка. В ее чреве ковырялся низкорослый, скуластый хакас. Он даже не повернулся в сторону Алеши — так был увлечен своим делом. Но едва Алеша поставил ногу на ступеньку крыльца, хакас, не поднимая головы, сказал:
— Эгей, хозяин. Зачем в кантору идешь? Там никого нет. Директор на полях, агроном на полях, главный механик на нефтебазу уехал.
— Значит, никого из начальства нет?
— Смотря какой тебе нужен начальник. Я тоже начальник. Участковым механиком работаю, по степи езжу, песни пою. Хочешь, поедем вместе, прокачу с ветерком, — весело затараторил хакас. — А ты кто такой будешь?
— Я из краевой газеты.
— Тогда я тебя не возьму. Моя машина не ходит. У нее карбюратор поломался, ремонтировать надо. Плохо, когда ездишь с поломанным карбюратором, — поморщился механик.
— Но ты только что обещал прокатить с ветерком?
Как старые знакомые, они сразу заговорили на «ты». Механик был симпатичен Алеше. Круглое, как луна, лицо с разбегавшимися морщинками у глаз. А сами глаза добрые, с веселинкой.
— Почему обещал, а теперь не везешь? — продолжал свое Алеша.
— Ты мал-мала Апониса критиковать будешь. Потом директор даст выговор.
— Это что за Апонис?
— Я и есть. А ты разве не знаешь? — хакас оскорбленно вздохнул и снова полез в мотор.
Алеша ждал, когда Апонис закончит ремонт. И вот из-за радиатора показалась довольная физиономия механика. Озорно засветились щелочки глаз:
— Садись, хозяин, в кабину. Я тебя повезу далеко-далеко. Мы будем пить араку, мы будем есть кан, потом пиши, ругай.
Отчаянно тарахтя и подпрыгивая на ровной дороге, грузовик вырвался в открытую степь. Побежали телеграфные столбы, в кабину подул теплый ветер. К запаху бензина прибавился стойкий аромат полыни, росшей в кюветах справа и слева от тракта.
Впереди лежала всхолмленная, вся в курганах степь. Она купалась в фиолетовой дымке, голая, с рубцами оросительных каналов. Лишь кое-где виднелись избы хакасских улусов да одинокие тополя или березки у полевых станов.
Апонис крутил баранку и пел. В его гортанной песне была такая тоска, что у Алеши сжималось сердце. И Алеша спросил:
— О чем это ты?
Апонис продолжал петь. И пел он еще долго, ритмично покачивая головой, как все степняки… Вот проехали они на мост через узенькую речушку, обогнали отару овец, которые так и норовили под машину. Наконец, в стороне, в полкилометре от дороги начался и вскоре кончился улус с домами и юртами.
— Я пел о храбром богатыре Чанархусе. Старики сказывают, что у одной женщины орел украл ребенка и унес к снежным вершинам, к тасхылам. Орел вскормил его. И вырос ребенок сильным и красивым парнем, и пришел он в наши улусы. А потом на празднике встретил Чанархус красавицу Алтын-кеёк. Черноволосая и яснолицая была Алтын-кеёк. Слава о ее красоте шла у тубинцев и у сагаев, у качинцев и койбал, у кызыльцев и бельтыр. Многие богатыри хотели привести в свою юрту Алтын-кеёк. Но она полюбила Чанархуса. А свирепый хан решил взять ее в жены. И Чанархус не вынес разлуки с любимой девушкой и убил себя.
Апонис умолк, однако вскоре запел по-русски:
От Чанархуса не уйду, о мой Чанархус!
За злого мужа не пойду, о мой Чанархус!
Храбрый мой сын орла, о мой Чанархус!
Я тебе сердце отдала, о мой Чанархус!
Песня была близка Алеше. Он думал о Вере, которую оставил в Ачинске, оставил в сомнениях и неизвестности. Алеша понимал, что она озабочена сейчас предстоящим отъездом, что она так же хочет этого отъезда, как и боится его. А боялась Вера за Алешу. Вдруг да будет хуже ему на новом для него месте.
Когда отъехали от Абакана километров тридцать, Апонис круто повернул машину на проселок. Мотор запыхтел и зачихал, и Алеша уже решил, что придется ночевать в открытой степи. Но Апонис знал слабости полуторки, где-то поднажал на что-то, и она завыла ровнее и перестала чадить.
Они подъехали к краю поля, на котором барахтался трактор всего с одной сеялкой. Поле было мокрое, и гусеницы трактора тонули в густой и жирной грязи. Апонис вылез из кабины и прошелся по бортику оросительного канала.
— Рано влезли сюда. Не дали подсохнуть земле, — сказал он.
— Кто же виноват?
— Вот видишь, хозяин, ты уже виноватого хочешь знать. Критиковать собираешься. А ты лучше с трактористом поговори. Узнай, отчего он желтый такой, отчего бегает вокруг трактора и кричит. А мокрый участок пашем потому, что поздно полили землю. А поздно полили потому, что мало воды в реке.
Увидев подъехавшего механика, тракторист остановил агрегат и, поддерживая живот рукой, направился к полуторке. Его кожа действительно была цвета охры, такими же темно-желтыми были белки глаз.
— Что это у вас? Вы больны? — забеспокоился Алеша.
— Да, печень. Третьи сутки дышать не дает, — трудно сказал тракторист.
— Но нужно в больницу. Понимаете?..
— А сеять кто будет? — тракторист кивнул на поле. — Сроки-то уходят.
Так встретился Алеша с человеком, о котором он послал в газету свою первую корреспонденцию из Хакасии.
Нет, матрос, ты не должен был, не имел права так говорить о тыле. И здесь люди не щадили себя, совершали ежедневный подвиг ради победы.
Потом Апонис опять запел о Чанархусе, и послушать его стали сходиться соседи. Вскоре юрта заполнилась женщинами, стариками и ребятней. Они молча ладошками хлопали Апониса по лопаткам, чтобы звучнее был его низкий, горловой голос. А он пел и пел.
13
Поезд приближался к Алма-Ате. В степи все чаще стали появляться зеленые островки пирамидальных тополей с мазанками, с ишаками на приколах. Пошли серебристые арыки, от которых опахивало прохладой. Наконец, заклубилась у дороги белая и розовая пена цветущих садов.
Костя выглянул в открытое окно вагона и увидел знакомые очертания гор с шапками снега на вершинах, а под ними — синий пояс елей и в ущелье — крыши домов. Сам город скрывала густая листва.
Кажется, никогда не волновался Костя так, как в эти последние минуты перед Алма-Атой. Он уехал отсюда давно. Где только ни побывал! Много друзей приобрел и потерял на военных дорогах! И дивился Костя диву, как он сам уцелел, как дожил до победы.
С утра в вагоне творилось невообразимое. На каком-то крохотном степном разъезде увидели стрелочника, плясавшего у своей будки, и поняли, что пришла победа, и заходил вагон от гвалта. Кричали «ура», выплакивали радость и боль, по-медвежьи круто тискали друг друга. Еще час назад трудно было бы поверить, что эти смирные и серьезные люди могут наделать столько шума.
А когда первый шквал радости несколько поутих, чумные с похмелья матросы стали рвать на себе тельняшки, сопревшие за войну, и ругать Гитлера. Мужчины ахали, женщины прыскали в ладошки от смеха и смущения.
На станциях обнимали ошалевших железнодорожников, целовались с милицией. Чудом доставали брагу и самогон. За пол-литра денатурата отдавали шинельку или пару обмундирования. А на станции, где продавали хмельной медок, повысаживали у ларька стекла и потом несколько раз срывали стоп-кран, чтобы задержать поезд. Поехали лишь тогда, когда насос у бочки с медом засопел, брызгаясь одной пеной.
Матросам повезло. Они где-то достали бурого, как свекольный квас, вина и принялись пить его из солдатского котелка. Они громко крякали от удовольствия, смачно облизывали губы. Котелок бойко ходил по кругу, в который один раз попал и Костя. Матросский заводила сунул ему котелок, сказал:
— Пей, пехота. За здоровье товарища Сталина.
Костя сделал несколько крупных глотков, и матрос похвалил его. А Косте совсем не хотелось пить на голодный желудок. Хлеб и сахар у него кончились, получить сухой паек можно было только на крупной станции. Такой станцией теперь была лишь дорогая его сердцу Алма-Ата, куда поезд приходил только в двенадцать дня.
За окном потянулись домики станционного поселка, огороды, зеленевшие грядками лука и редиса. Замелькали узенькие улочки с веселым, суетливым народом. И вот впереди показался перрон.
Но это еще не город. До городского вокзала нужно было ехать на поезде горветки. Этот поезд Костя ожидал около часа. Он успел получить по талонам продукты. Все-таки явится домой не с пустыми руками.
Он представлял себе, как встретится с матерью, с Владой. У матери, конечно, будет уйма вопросов, будут и упреки, что мало писал, что позабыл ее. Расплачется, прижимая Костю к своей груди. А он попросит прощения за бессонные ночи, которые доставил ей своим молчанием. Мать простит. На то они и матери, чтобы все прощать детям, даже незаслуженные обиды.
Встречу с Владой Костя представлял себе по-разному. То он сталкивался с нею где-нибудь в парке или у библиотеки. С равнодушным видом здоровался и, будто между прочим, спрашивал Владу об ее жизни.
То Костя встречал Владу в театре, и не сам подходил к ней, а ждал, когда подойдет она. Разумеется, она очень удивится, а Костя бросит ей в лицо резкие слова про киношников. Влада замолчит, не станет оправдываться.
Костя ведь понимает и всегда понимал, что главное — верить близкому человеку. Без доверия не может быть дружбы. Но ему не по себе было при мысли, что умная и благородная Влада терпит каких-то пижонов, которых сама осуждала в письмах. Конечно, насчет Игоря она могла написать и правду, что познакомилась с ним, например. Но выйти за кого-то замуж… Нет, этого Костя почему-то не боялся. Разумеется, она могла сделать это, но чтоб женихом был настоящий парень, а не какой-то чистоплюй. Костя хорошо помнил Владины слова, что человек должен быть сильным, очень сильным, и что именно такого полюбит она.
Костя торопливо шел по путям и мимо саксаульной базы на свою родную улицу. Правду сказал кто-то, что путь домой лежит для фронтовиков через далекий, чужой край. И Костя побывал на чужой земле. Он был ранен под румынским городом Ботошанами. Осколок снаряда попал в голову, раздробил лобную кость. В этом же бою оторвало руку историку Феде. Они лежали в одном госпитале. Федя выписался раньше и уехал к сестре в Казань. Костя еще лечился и после лечения получил на три месяца отпуск.
Мать стояла у калитки, как обычно. Пристально глядела в лица прохожих, словно надеялась в одном из мужчин узнать сына. Но когда он подошел в самом деле и позвал ее, она подумала, что это привиделось ей, и совсем закрыла глаза, чтобы не рассеялся призрак. Так у нее бывало уже не раз.
— Мама, — повторил он, сбросил с плеча вещмешок и протянул к ней руки.
И она затрепетала от его прикосновения и разрыдалась. Долго всхлипывала, прежде чем догадалась открыть калитку и впустить во двор Костю. А на крыльце мать снова остановилась и несколько секунд рассматривала повзрослевшего сына в упор.
— Похудел и побелел ты, сынок, — сокрушенно проговорила она.
— В госпитале побелел, мама, когда окопную грязь смыл, — пошутил он, глядя на залитый солнцем огород, на подросшие вишни и яблоньки с обвисшими от жары листьями.
Мать накрывала на стол, а Костя рассказывал ей о фронтовом житье-бытье. Она, слушая его, не вникала в смысл слов. Это ей было совсем ни к чему. Важно, что сын рядом. Раз звучит в комнате его голос, значит, он здесь, и у матери спокойно на душе.
Костя смотрел на материнские руки, на ее сутулую фигуру и отмечал про себя, что она сильно постарела, сдала за военные годы. Поседели виски и пряди волос на лбу, пожухла кожа на лице и шее. И две глубокие, очень глубокие складки залегли у рта.
Косте стало жалко ее. Он приблизился к ней и поцеловал. И упрекнул себя за то, что месяцами не давал матери знать, где он и что с ним. Он сам доставлял ей лишнее беспокойство.
Но что значит запоздалое раскаяние? Что думать о прошлом, когда сегодня такой счастливый день! Надо радоваться встрече, только радоваться!
Мать налила Косте щей, горячих, прямо из печки. Вытерла полотенцем и поставила перед ним отпотевшую бутылку вина.
— Из нее я угощала дружка твоего Алешу Колобова, — сообщила мать.
— Он приехал? Тоже ранен?
— Списали совсем. Дома живет, хотя один раз только и приходил к нам. А может, уехал. Не знаю.
— Обо мне спрашивал?
— Как же, сынок. Обязательно спрашивал. Ты бы посмотрел на Алешу. Высокий он стал да красивый.
— А ты что ему сказала, мама?
— Что ты не пишешь, то и сказала.
— А еще что? — допытывался он.
— Больше ничего, — она сложила руки на груди и наблюдала, как он ел. И ее очень развеселило, когда он попросил добавки. Отвык, наверное, от домашних обедов.
Принялась говорить об отце: она по-прежнему относилась к нему с явной неприязнью, не ждала его, не хотела видеть.
После обеда мать, заметив, что у Кости устало слипаются веки, разобрала постель. Он по-солдатски быстро разделся и, встав на прохладный пол босыми ногами, почувствовал такое облегчение во всем теле, какого давно уже не испытывал. Он лег на постель, приятно пахнущую ветерком, зажмурился и сразу уснул. Усталость долгого пути бросила Костю в глубокий сон, из которого он выбрался лишь через сутки.
Несколько дней Костя отдыхал. Лишь сходил к Алеше. Но никого там не застал, а соседи Колобовых сказали, что Алеша вот уже два месяца как уехал в Сибирь.
Было обидно, что могли встретиться и не встретились. Интересно бы поговорить теперь, после фронта, когда они оба стали взрослыми, повидавшими жизнь людьми.
О Владе мать даже не заикалась. Ему нужна любящая жена, а не куколка, которую только и носить на руках.
Костя, так стремившийся к Владе, теперь откладывал свою с ней встречу. Вечером он твердо решал идти к ней, а утром говорил себе, что спешить некуда, что впереди у него три месяца, а может, и того больше, и что он успеет повидать ее. Костя боялся: вдруг да Влада действительно вышла замуж. Блеснул перед нею чем-нибудь этот хлыщ, показался Владе необыкновенным, и она связала с ним свою судьбу…
Мать по грустным и задумчивым Костиным взглядам, по тому, как он хватался за любую работу, лишь бы убить время, понимала, что на душе у него неспокойно. Любит сын Владу, не забыл ее. И чем-то сильно обидела его гордячка, что он никак не может теперь переломить себя, простить ей это.
Наконец Костя не выдержал. Решил сходить к Владе. Он добрый час вертелся перед зеркалом. То причесывался, то примерял рубашки. Старательно чистил бархоткой отцовы туфли, которые теперь ему были малы и жали пальцы.
«Так ходят на свидание», — сказала себе мать, провожая Костю до калитки.
Было то время суток, когда и не день, и не вечер. Солнце еще палило отчаянно, стояло вроде бы высоко, а прежней духоты уже не, было. Воздух задвигался. Небо подернулось пепельной пленкой, словно выгорело. Этот же пепельный налет лежал на далеких вершинах гор.
Костя отмахал добрую половину пути, когда подумал вдруг о том, что Влады может и не быть дома. Она учится. Значит, сейчас или на занятиях в университете или в библиотеке. К ней нужно идти часа через два. А эти два часа погулять в парке или попроведать Ахмета. Если свернуть сейчас в улицу, то до него каких-нибудь полтора квартала. Хороший парень Ахмет, искренний, честный. Очевидно, все пишет свои пейзажи, если здоров, ведь у него что-то было с легкими.
Дверь открыла седая маленькая женщина, тетушка Ахмета. В черном до пола татарском платье, свободно падавшем с плеч, в черном платке, закрывавшем лоб до самых бровей и завязанном на затылке, она вежливо посторонилась, пропуская Костю в комнаты.
— Вы друг Ахмета? Да, вы его друг, — спрашивала и отвечала сама.
— Он дома? — оглядываясь по сторонам, спросил Костя.
— Посмотрите полотно, оно на мольберте. Он весь там, мой мальчик. До последнего вздоха…
— Что? Что с Ахметом? — тревожно повернулся к ней Костя.
Она прошаркала подошвами крохотных красных сапожек в другую комнату и тонким, как спичка, пальцем позвала Костю. У нее был вид заговорщицы, которая под большим секретом собиралась сообщить ему какую-то чрезвычайно важную тайну.
«Неужели Ахмет умер? А это черное на его тетушке — знак траура по нему?» — подумал Костя, шагнув к ней.
Другая комната была нежилой. На столе, на подоконниках, на полу лежал толстый слой пыли. Рой пылинок кружился в столбах солнечных лучей, которые падали на обшарпанную стену. Эти пучки света только подчеркивали мрак и запущенность комнаты.
— Где Ахмет?
— На все воля аллаха, — часто закачала головой она, снимая с полотна на мольберте старую, засиженную мухами газету. — Посмотрите, друг Ахмета, на воду. Разве видели вы где-нибудь чище и прозрачнее этой? Она готова спорить с родниками, с потоками поднебесных гор. А глаза? Разве не заключена в них человеческая усталость? Человек устал от жизни, ему пора уходить.
Костя хотел возразить ей. Нет, это усталость не побежденного, а победителя. Тетушка неправильно толкует картину. Но ей не докажешь, что все не так. Она будет спорить. Она считала, что уже отгадала вечную загадку жизни.
— Он говорил, что стремится к совершенству, — продолжала она, не сводя с картины тусклого, как у мертвой косули, взгляда. — Мальчик мой, он спешил к аллаху, чтобы познать величайшую сладость неземного.
— Давно умер Ахмет? — глухо, не своим голосом спросил Костя.
— Уже месяц, как нет его. А вот этот мазок на полотне — последний. Сделал его Ахмет и упал. У него кровь хлынула горлом, и он упал у мольберта. И лежал здесь…
Голубой мазок перечеркивал картину, шел с угла на угол по диагонали. И, странное дело, он не казался лишним на полотне. Он органически вплетался в композицию. Он нужен был здесь, хотя никто не смог бы точно сказать, что он обозначает. Может быть, даже права тетушка Ахмета, когда она говорит о стремлении художника к совершенству. Совершенство — не только мастерство, но что-то неизмеримо большее, заключенное в самом человеке.
Костя попрощался. Она не проводила его до двери. Она что-то шептала по-татарски. Очевидно, беседовала с тенью своего племянника, которая была рядом с нею, здесь, у мольберта.
Костя вышел на улицу торопливым шагом человека, преследуемого кем-то. Разговор с тетушкой Ахмета, как и сама смерть друга, потряс его. И голубой мазок… Он стоял теперь у Кости перед глазами, как немой упрек.
«Не надо было заходить. Та же Влада сказала бы об Ахмете», — размышлял Костя, не в силах отвязаться от мучившего его видения.
А эта тетушка словно помешана. Как это все ужасно!
Косте вспомнилось, как он вместе с Ахметом и Алешей ходил в горы. Ахмет тогда взялся спорить с милиционером. Все это кажется таким милым и таким далеким. Алеша ранен, отвоевался и уехал в Сибирь. А вот Ахмета уже нет. Голубой мазок был последним в его короткой, нелегкой жизни.
Немного погодя, Костя стоял перед отцом Влады. Он встретил Костю с дежурной снисходительной улыбкой. Одет он был в своей традиционный азиатский халат, очень длинный, до самых лодыжек. Он заметно постарел. В его движениях уже не было той плавности и уверенности, которыми походила на него Влада.
Он был дома один. В комнатах пахло топленым молоком. Заметив, что Костя почувствовал этот запах, отец Влады скривил рот:
— Готовлю ужин. Они задерживаются сегодня.
Костя насторожился: почему — они? Значит, правда, что Влада замужем. А он, осел, все не верил, считал, что она разыгрывает его. И поделом ему, чтоб не строил воздушных замков. И незачем оставаться Косте здесь до их прихода. Она писала, что познакомит Костю с Игорем. Нет, избави бог от такого знакомства! Не знает Костя Игоря и не хочет знать.
Но уйти вдруг как-то было неудобно. Отец Влады усадил Костю напротив себя, у круглого стола, и завел разговор о войне и победе.
— Давайте пропустим по маленькой. У меня есть наливка и есть чем закусить, — проговорил он, жестом приглашая Костю на кухню.
— Спасибо, я лучше пойду.
— Нет, я не могу отпустить вас. Влада сживет меня со света. Приходите, пожалуйста. Очень прошу.
«Зачем я нужен ей, когда у нее есть муж»? — с болью подумал Костя. Но он решил все же остаться. Уйти никогда не поздно. А увидеть Владу ему хотелось, несмотря ни на что.
Когда они выпили, отец Влады стал осуждающе говорить о своем зяте. Пижон, как и вся его компания. Рестораны, танцульки, и абсолютное легкомыслие. Сама Влада не раз видела мужа с любовницами. Семейные скандалы, постоянные попреки — все это очень нехорошо. Да разве Влада удержит его, коли он захочет уйти? Нет, такого не бывает.
— Я не узнаю Владу, — сказал Костя.
— И я тоже. Она стала совершенно другой, когда влюбилась в этого шалопая.
— Он очень красив? — с нескрываемой ревностью в голосе спросил Костя.
— Обыкновенный пижон. А она дура.
— Влада умная и серьезная, — возразил Костя.
— Я тоже так думал два года назад… Они утомили меня своими штучками-дрючками! Я терпелив по натуре, но и мне становится невмоготу!
От этого разговора настроение у Кости еще больше упало, хотя где-то в глубине души он радовался, что у Влады не клеится с Игорем. Он мстительно думал о минутах горького раскаяния, которое — он хотел в это верить — не раз уже посещало Владу. И вместе с тем, Костю разбирало любопытство, ему не терпелось посмотреть на Игоря, что за человек тот, кого предпочла Влада Косте и Илье Туманову.
Влада и Игорь пришли вместе. Был уже вечер, в распахнутое окно доносились запахи остывающей земли. Заслышав шаги в коридоре, Костя обмер. Потом он вскочил и так стоял неподвижно, пока Влада не заглянула на кухню.
— А, Костя, — слабо улыбнулась она, и вид у нее был такой, как будто ничего не произошло. Она умела держать себя в руках. Только когда Костины глаза встретились с ее глазами, Влада смущенно отвела взгляд. И тут же стала выговаривать отцу, что он накрыл на стол на кухне.
Спохватившись, Влада позвала Игоря, чтобы познакомить со школьным товарищем. Позвала с наигранной веселостью. Ей было не очень приятно, что они сойдутся сейчас и станут о чем-то говорить.
Игорь был отлично сложен. Под пиджаком спортивного покроя угадывались тугие узлы мышц. А лицо ничем не выделялось из тысячи лиц, виденных Костей. Нос с горбинкой и тяжелая нижняя челюсть делали его даже несколько грубоватым.
— Школьный товарищ? — Игорь протянул руку.
— Здравствуйте, — пробормотал Костя.
— Рад приветствовать вас, — Игорь учтиво поклонился.
Этой развязной манерой держаться он несомненно копировал кого-то, наверное, какого-нибудь известного кинодеятеля. И говорил Игорь тоже, как знаменитости, с некоторым пренебрежением и в нос.
Все еще продолжая сердиться на отца, Влада принялась распечатывать консервные банки с колбасой и говяжьей тушенкой. Она неумело работала ключом и вот бросила его.
За консервы принялся отец, а Влада пригласила Костю в столовую. Они втроем сели за стол. Костя отказывался от угощения. Ведь только что он ел и пил с отцом Влады.
— Вы наш гость, — манерно сказал Игорь.
Все пришлось повторять сначала. А Влада наливала Косте не меньше, чем своему мужу, и вскоре у Кости отяжелела голова. Но ведь он этого и хотел, чтобы не думать о Владе, и так он достаточно думал о ней.
После нескольких общих вопросов о войне и здоровье, Влада спросила у Кости, пишет ли он стихи. Костя сказал, что не пишет, но тут же поправился: пишет, но мало. Все некогда.
— И в госпитале было некогда? — Влада удивленно вскинула брови.
— Для стихов нужно настроение.
— Я тоже смог бы написать, но что толку марать бумагу! — насмешливо проговорил Игорь.
Влада посмотрела на него хмуро, но смолчала. А он, между тем, продолжал:
— Писать стихи хитрости не надо, — и сунул в рот большой кусок американской колбасы.
Чтобы увести беседу в другое русло, Влада сказала:
— А мы, пожалуй, уедем. На этой неделе студия возвращается в Москву. Переведусь в Московский университет.
— Да, мы уезжаем, — подтвердил Игорь.
Костя допоздна засиделся у Влады. Его пошел провожать Игорь, хотя этого совсем не нужно было. По пути он хвастался близким знакомством с артистом Алейниковым, своими бильярдными победами. Он говорил о каких-то выигранных и потом проигранных деньгах, о крупной сумме.
Костя слушал его рассеянно.
«Недоросль, кретин», — оценил его Костя еще за столом.
— Тебе нравится Влада? — вдруг спросил Игорь со странной ухмылкой.
— А что? — Костя остановился и пьяно качнулся к нему.
Игорь помолчал, игриво раскачиваясь с пяток на носки, затем сказал, понизив голос до шепота:
— Только тихо! Понял?.. Я не возьму ее в Москву. Я найду себе там не хуже.
— Что ты сказал?
— Ты, если хочешь, то живи с ней. Она мне надоела, — откровенно признался Игорь.
Костя схватил его рукою за горло, рванул:
— Сволочь!
— Псих, — брезгливо прохрипел Игорь, спокойно отбросив Костину руку.
Костя опять полез. Но боксерский удар в подбородок свалил его. Игорь был прекрасно натренирован. Он мог выстоять в схватке с куда более сильным противником.
14
Парило. Асфальт дышал жаром и разъезжался под ногами. Костя шел по тротуару, с удовольствием ныряя в тень карагачей, росших вдоль арыка. Хотелось пить, и Костя поглядывал по сторонам, нет ли где колонки водопровода.
Так он дошагал до центра города, где у ларька с полосатым тентом толпились люди. Продавали пиво. Слышалось позвякивание пивных кружек да монотонно гудели голоса. Под тентом, у самого окошечка, была неимоверная давка.
Костя занял очередь и, изнемогая от жары, лениво наблюдал толпу. Здесь стояли в основном мужчины, пожилые и совсем юные. Но были и Костины ровесники, правда, все, как на подбор, раненые.
Костя снова почти неделю не показывался в городе. Он сидел днями в своей беседке, прогуливаясь лишь по Шанхаю.
Косте было обидно за Владу. Ей нравились люди Игорева круга. Они говорили об искусстве так, словно что-то в нем понимали. И Влада, не раздумывая, пошла за ним, целиком доверилась ему, связала свою жизнь с его жизнью. И теперь странно было видеть эту волевую, гордую девушку женою, которой тяготится человек, не достойный ее.
А Костя по-прежнему любил Владу. Она умна и красива. Влияние ее на сверстниц было общепризнанным. Да и могло ли быть иначе!
Но Владу избаловала жизнь. Ей все давалось легко. И эта легкость оказалась именно той червоточиной, что впоследствии привела Владу в компанию Игоря. И как результат — печальная участь покинутой жены. Костя не придет больше к ней, потому что Влада его не любит.
В очереди толкались измученные жарой люди. Когда они подходили наконец к окошечку, пиво уже не радовало их.
«Не буду стоять. Лучше где-нибудь напьюсь воды», — подумал Костя и вышел из очереди, поправляя выбившуюся из брюк рубашку.
Вдруг на Костино плечо легла чья-то рука. Костя повернулся и увидел историка Федю. Они обнялись, как старые фронтовые друзья. И Федя, часто моргая воспаленными веками, говорил:
— Вот приехал. Не вынес я положения няньки. У сестрицы такой забавный карапузик двух лет отроду, прижила с каким-то раненым капитаном. Тот вылечился и опять на фронт. А меня, значит, в няньки… Да, ты помнишь, Костя, была у вас в классе Тоня Ухова? Ну, конечно, помнишь.
— Тоню? А что?
— Отличилась на фронте. Из-под огня бойцов выносила. Да о ней неделю назад «Красная звезда» писала, как о настоящей героине. Работала где-то в госпитале, выпросилась на передовую.
— И кто бы мог подумать, что наша Тоня… — помолчав, сказал Костя. — Была ведь такая тихая, незаметная.
Федя рассмеялся:
— Чаще всего так и бывает. А иной много кричит, удалью своей похваляется. До серьезного ж дела дойдет — норовит поскорее да незаметнее в кусты. Слушай, ведь у меня к тебе разговор! Пива хочешь?
— Тут не дождешься. Да разве влезешь туда?
— Мы попробуем, — подмигнул Федя. — Товарищи, — обратился он к очереди. — Я встретил однополчанина. Ох и парень, я вам скажу! Тут есть кто с Миуса?
Из-под тента показалась взлохмаченная голова:
— Я, а что?
— Как там пришлось нашим? А фрицам как пришлось? — И снова к очереди. — Может, позволите пару кружек по случаю встречи?
— Пей. Кто тебе не дает, — буркнул старик с моржовыми усами, стоявший неподалеку. Но на старика кто-то прицыкнул, и очередь стала расступаться.
Косте было неудобно за Федю. Провались пиво, чтоб из-за него унижаться.
— Осуждаешь? — спросил Федя, подавая кружку. — А ты смотри на вещи проще. Народ у нас добрый, и, если душевно попросить его, он ни за что не откажет. И у народа просить не стыдно.
Еще раз поблагодарив очередь, Федя здоровой рукой сжал локоть Кости, и они направились прочь. До входа в парк нужно было пройти почти два квартала. Но в одном месте деревянная ограда была разворочена, и Федя первым перелез через нее.
Они расположились на траве в тени старых кленов. Солнце не пробивало толщу листвы. Лишь кое-где между деревьями проскальзывали острые лучи, похожие на золотые кинжалы. Федя достал из кармана вельветового пиджака сложенный вчетверо клочок бумаги, развернул и молча подал Косте.
Это было письмо. Хорошо знакомый Косте почерк. Костя взглянул на подпись и вскрикнул:
— Алеша!
— Колобов прислал Ларисе Федоровне. Но письмо касается, главным образом, нас с тобой. Читай.
«Дорогая Лариса Федоровна!
Вот я и в Сибири. Работаю по литературной части — в газете. Всем очень доволен. Уже бывал в командировках, написал очерк и несколько статей, но сам я понимаю, что нужно еще много учиться, чтобы стать настоящим журналистом.
Вместе с Верой участвую в самодеятельности. Подготовили и ставили спектакль «Лес». Говорят, что получается ничего. Но театр для меня — не главное, хотя я его и очень люблю.
Недавно мы ездили со спектаклем на рудник. И встретили там Петю Чалкина из десятого «Б», вы, конечно, помните его. В сорок третьем он попал в плен. Немцы состряпали провокационную листовку, из которой можно понять, что он предатель, что Петя изменил Родине. Из-за этой листовки Чалкина осудили на десять лет, и теперь он с бандитами-власовцами работает на руднике.
Но Петя не мог бросить на поле боя раненого Васю Панкова. Петя говорит, что в плену он убил предателя, и за это немцы бросили Чалкина в концлагерь. Но доказать свою невиновность он не мог и не может сейчас, потому что не знает, где Панков. Когда Петю увезли в концлагерь, Панков лечился в немецком лазарете.
Вот, собственно, и все, что Чалкин рассказал о себе. Лично я верю ему. Но нужно, чтобы ему поверили в прокуратуре и военном трибунале и чтоб дело его было пересмотрено. Жив ли Вася Панков? Я очень прошу вас, Лариса Федоровна, через ребят или еще как-то узнать его адрес. Только Васины показания спасут Петю Чалкина.
Простите меня, что затрудняю вас своей просьбой. Однако я не имею права поступить иначе. Об этом же просит вас и Вера. А Петя Чалкин сейчас на Ачинском руднике.
До свидания, всего вам самого хорошего! Привет всем учителям.
Ваш Алексей Колобов».
Пока Костя читал, Федя, подперев здоровой рукой подбородок, разглядывал ленточки улицы и неба, что виднелись между стволов деревьев. Как весело, беззаботно движутся по улице люди. А ведь война только кончилась. Может, вот так же скоро забудут и тех, кто остался на полях сражений. Нет, этого нельзя допустить. Не мертвым нужна память о них — живым.
— Никто не имеет права забывать, — медленно шептал Федя.
Прочитав письмо, Костя покосился на Федю, спросил:
— Что делать?
— Будем выручать, — помрачнел Федя. — Хоть следы-то отыскались. Я напишу Андрюхе. А с Панковым ничего не выйдет, — он тяжело вздохнул.
Под Корсунь-Шевченковским окруженные немцы рвались к своим. Они ввели в действие все силы. Стрельба с обеих сторон не утихала ни на минуту. Особенно большие потери понес полк, в котором служили Костя и Федя. Ряды бойцов так поредели, что отбивать беспрерывно атаки танков и пехоты на этом участке, по существу, стало некому.
И вот, когда уже казалось, что немцы прорвут сжимавшее их кольцо, на участок полка был брошен штрафной батальон. Он яростно кинулся в контратаку, а дивизионная артиллерия поставила завесу огня перед самыми вражескими окопами. Штрафники полностью уничтожили немецкую пехоту и прикрывавших ее несколько «тигров».
Еще кипел бой, когда к окопу, в котором сидел Костя, наш боец подтащил на плащ-палатке раненого. Тот был весь в крови. А санитар приложил ухо к груди раненого и тут же закрыл ему серое лицо пыльным углом пестрой немецкой плащ-палатки.
— Кончился, — сказал санитар, спрыгнув в окоп, и попросил у Кости докурить.
— Куда его зацепило? — спросил Костя.
— Всего посекло. Думал, что доволоку как-нибудь до медсанбата. Хотя все равно не жилец, — он несколько раз затянулся дымом и отдал цигарку обратно. — Кончился Васька Панков, — сказал санитар и бросился вперед, где сражались с немцами штрафники.
Костя обмер, услышав Васино имя. Это было невероятно, и Костя сразу не поверил в то, что погиб именно его друг. Мало ли Панковых Василиев на Руси! Но когда рванул плащ-палатку и открылось лицо убитого, сомнений не стало. Перед ним был мертвый Вася Панков.
— Ты не помнишь села, где мы его похоронили? — спросил Федя.
— Там небольшой хутор на берегу речки Рось.
— Рось включительно, Рось исключительно… Я вспоминаю. Там был еще разрушенный мостик, где нас обстреляла пушка «Артштурм».
— Тогда убило нашего командира взвода, — вспомнил Костя.
— А ты не был у Васькиной матери? Получила ли она похоронную? Сейчас это важно. Если есть похоронная, нужно снять копию.
— Я собирался зайти, но подумал, что это лишнее. Пусть еще на что-то надеется мать, — трудно произнес Костя. — Рассказ-то ведь больно невеселый.
— Да. Но зайти нужно. Особенно теперь. А ты хорошо помнишь, что нам говорил Вася о Петре? В Колпаковской станице? Когда подходил к нам этот, из особого отдела?..
— Помню, Вася говорил, что Петя в плену убил вот этого самого, о котором писал Алеша. Он говорил, что Чалкин видел в Амвросиевке, как сгружалась танковая дивизия.
— И донесение Петра мы передали в разведотдел. И оно сыграло свою роль, — взмахнул култышкой руки Федя. — Если мы это докажем, то восстановим справедливость. Петю освободят.
— Мы должны сделать это, Федор Ипатьевич! — воскликнул Костя.
— Разумеется. И найди Сему Ротштейна. Пусть напишет, что Вася и Петя несли его в санчасть полка. Лишняя бумажка не помешает.
На этом они и расстались. Прямо из парка Костя отправился к матери Васи. Он заново пережил, может быть, самые трудные минуты войны. Его долгом было не оставить Петера в беде. А в том, что тот не виновен, Костя не сомневался. Правда, Петер мог застрелить себя, но тогда бы он предал Васю. Черт возьми, как сложно все это!
Костя застал дома у Васьки старуху. Она готовила на плите обед. Остро пахло щами, пережаренным луком.
На стук двери старуха повернула ссохшееся лицо и принялась внимательно разглядывать вошедшего. Нет, она никогда не видела этого парня в военной гимнастерке. Кто же он? Зачем пришел к ней?
— Здесь Панковы живут? — спросил Костя, хотя сразу же узнал в старухе Васькину мать.
— Они самые. А по какому такому делу? — закашляла и пояснила:
— Не здоровится мне. Видать, простыла, под лопатку стреляет.
Она вытерла руки о фартук и прошла к столу. Подождала, когда заговорит Костя. А он начал сорвавшимся вдруг голосом:
— Вот пришел узнать о Васе. Мы учились с ним вместе… Есть что-нибудь от него?
— Есть.
— Что? — он подвинулся к ней.
— Похоронная. Там написано про Васину смерть да про геройство.
— А может?..
— Нет, погиб. Он сызмальства отчаянным был. Иной раз и грешила с ним, а теперь жалко. Каждому свое дитя жалко, милый.
— Куда вы ее дели?
— Кого это?
— Мне нужна похоронная, — твердым голосом сказал Костя.
— Забрали бумажку. Приходили насчет пенсии и забрали, — сказала старуха.
«Похоронная в райсобесе», — решил Костя.
Но занятия в учреждениях уже кончились. И он побрел домой. Тупая боль сжимала сердце. Хотелось поскорее добраться до постели, лечь и уснуть.
Костя мастерил упавшую изгородь, когда к нему подошла мать. Растягивая слова, сказала:
— Отец помер у Влады. Она мальчика за тобой прислала. Вот, — мать подала записку.
Костя взял клочок бумаги и принялся читать. Влада в беде! С каждой секундой Костей все больше овладевала тревога.
Влада писала:
«Милый, хороший!
Мне так тяжело. Умер папа. И я одна. Я не знаю, что делать. Приходи сейчас же».
— Сходи, сынок. Все-таки она девица. Кто поддержит ее в скорбную минуту, — сказала мать, горестно покачивая головой.
Костя, не раздумывая, бросил топор, повернулся и пошел в город. У вокзала он сел на трамвай. Он понимал, что она его очень ждет, если написала такую записку.
Вскоре Костя входил в квартиру Влады. Он ожидал увидеть здесь множество людей, но у порога стояли лишь две старушки, очевидно, соседки, да в столовой у гроба сидела рядом с Владой какая-то женщина.
Увидев Костю, Влада, вытирая платочком красное, сразу подурневшее лицо, подошла к нему.
— Вчера вечером. Это не первый у него сердечный приступ, — и пошатнулась.
Костя подхватил ее, не дал упасть. А женщина, что сидела у гроба, сказала Косте:
— У нее нет сил. Она всю ночь не сомкнула глаз и днем не уснула.
Женщина раскрыла флакончик и дала Владе понюхать. По комнате расплылся резкий запах нашатырного спирта.
Покойник лежал в тесном гробу. Казалось, что вот-вот под тяжестью тела отойдут боковые плахи. Не над этим ли усмехался мертвец уголком крепко сжатого рта? Или смеялся над людьми, которым только предстоит перейти тот рубеж, что осилил он.
— Как живой, — прошептала женщина, осторожно поправив на груди покойника веночек из бумажных цветов.
«Он не любил пижона Игоря. Он был неглупым и разбирался в человеческих отношениях. А Игорь, наверное, уехал. Конечно, уехал, а то бы был здесь», — думал Костя, не отрывая взгляда от синего лба покойника.
Поздним вечером, когда в комнатах зажгли свет, приходили какие-то дамы в шляпках, хлюпали носами и охали, уговаривали Владу держать себя в руках. За ними следом явились мужчины интеллигентного вида. От них слегка попахивало вином.
А ночевали в квартире трое: женщина спала на кушетке в кухне, и Влада с Костей сидели у гроба. Костя просил Владу прилечь хоть на полчаса, но она отказалась.
— Как я теперь буду жить? Как буду жить?..
Перед рассветом Влада забылась, положив голову на Костины колени. И Костя не двигался, боясь потревожить ее сон. Владе нужны были силы еще на один страшный день, день похорон отца.
Она спала беспокойно и недолго. А когда проснулась, с тихой благодарностью посмотрела на Костю и печально произнесла:
— Я низкий и гадкий человек. И это возмездие за мое ничтожество. Я так виновата перед тобою!..
— Нет, Влада. Ты говоришь совсем не то, — вздохнул Костя.
— Какой дурой я была! Ты знаешь, что он меня бросил? Господи, и как я рада этому! Понимаю, что я жалка, что никому не нужна…
Она говорила слова, которые не находили в Костином сердце ни жалости, ни сострадания. Он хотел лишь одного: скорее похоронить Владиного отца и уйти от Влады. Совсем уйти.
Но она сама потерялась в пестрой толпе сослуживцев и знакомых отца, что хлынули вдруг с утра и вскоре заполнили всю квартиру. Лишь на кладбище, когда отзвучали положенные в этих случаях траурные речи и гроб опустили в могилу, Костя услышал слабый крик Влады и увидел ее обезображенный горем профиль.
Костя торопливо зашагал домой. Смерть Владиного отца не ошеломила Костю, она как-то сразу же вылетела из головы, словно ее и вовсе не было.
15
Глубокой ночью Алеша сошел с поезда. Сеял дождь, и лужи были черные, как гудрон. На привокзальной площади ни подвод, ни грузовика. Оставаться на вокзале до утра не хотелось. Алеша с минуту постоял у дверей и решительно шагнул в сырую темень.
Он шел по грязной, неосвещенной улице пристанционного поселка, затем свернул в сосновую рощу, за которой начинался собственно Ачинск. Гимнастерка на Алеше насквозь промокла, но он не чувствовал холода. Его согревала быстрая ходьба. Алеша спешил увидеть Веру.
Он думал о ней с обожанием и тревогой. Он был уверен, что Вера любит его. Но Алеша беспокоился, что она страдает от нужды, в которую добровольно пошла. Но тут же мысленно твердил: нет, она все переживет, все вынесет рядом с ним.
Он представлял Веру то школьницей за партой, то артисткой в «Медведе». А то в момент их встречи в Ачинске. Она крепко обняла его тогда и поцеловала.
Алеша не жалел Ванька. Он не мог жалеть его, потому что Ванек и Вера всегда были чужими и лишь по иронии судьбы оказались вместе. Ванек не любил Веру, он любил в ней себя. Ему было лестно обладать красивой и умной женщиной, некогда пренебрегавшей им.
«Я увезу тебя, Вера, в далекие степи, где веками дремлют у курганов каменные идолы, — мысленно говорил Алеша. — Мы будем жить в краю, где рождаются чистые и звонкие реки. А вечерами в хакасских юртах будут звучать песни степняков о любви Алтын-кеёк и Чанархуса»…
Он пришел домой весь в грязи: спускаясь с горки, поскользнулся и упал. Вера бросилась к нему, поцеловала.
— Снимай все. Выстираю сейчас, — сказала она, натягивая на свои узкие плечи выцветшее ситцевое платьице. — Я так ждала тебя! Думала, что с ума сойду.
Алеша испытывал к Вере такую нежность, какой не знал прежде. Ему вдруг захотелось схватить ее в охапку и закружить. И вовсе не беда, что он совсем не умел танцевать.
Вера принесла небольшое деревянное корыто, налила в него воды, принесла жидкое мыло в стеклянной баночке. Все у нее так и горело в руках, и Алеша зачарованно любовался ею.
— Я читала твою статью о трактористах. Статья всем у нас понравилась на работе, — говорила она, поблескивая голубыми искорками глаз. — Заведующая библиотекой сказала, что у тебя определенно талант.
— Уж так и талант, — усмехнулся Алеша, радуясь похвале.
— А как ты съездил? — спросила она, ловко выкручивая выстиранную гимнастерку.
— Хорошо, — ответил он шепотом, чтобы не разбудить хозяйку, спавшую за дощатой перегородкой.
Затем Алеша все так же, в одном белье, сидел за столом напротив Веры и пил молоко. Алеша пил его маленькими глотками и думал о том, что он самый богатый человек на земле. У него есть любимая жена, которая всегда ждет его, которой он необходим.
А Вера, подперев ладошками подбородок, счастливо глядела на Алешу. Приоткрытая грудь ее дышала ровно.
— Скучал? — Вера перехватила его взгляд.
Утро текло в неплотно прикрытые ставни ручейками весеннего солнца. Подняли неистовый гвалт воробьи, прилетевшие под окно. А Вера, забыв, что Алеша не спал эту ночь, просила говорить о его поездке. Просила повторять сказанные им слова.
— Больше всего на свете! Больше самой жизни! — говорил Алеша, вдыхая дурманящий запах ее тела.
К девяти часам утра он был на ногах. Не терпелось повидать Василия Фокича, узнать редакционные новости. Конечно же, больше всего Алешу интересовало, что сталось с героями фельетона. Неужели смогли как-то выпутаться? Нет, милиция еще до Алешиного отъезда вела следствие. Значит, жулики должны получить каждый свое.
Гимнастерка и брюки, хорошо выутюженные, пахнущие ветерком и паленым, лежали на табуретке у кровати. Алеша надел их и в осколок зеркальца оглядел себя. Остался доволен: аккуратный, чистый, вот только надо бы постричься — оброс в командировке. Она так заботлива, Вера, она все умеет делать.
От ночного дождя уже ничего не осталось. Телеги, тарахтевшие по улицам, поднимали пыль. Лишь кое-где в тени виднелись крохотные зеркала лужиц.
Алеша любил позднюю весну, когда отцветают деревья и зацветают травы. В эту пору ему хотелось в луга и на светлые речные плесы. Уйти далеко-далеко вместе с Верой!
Василий Фокич, казалось, поджидал Алешу с минуты на минуту. Он нисколько не удивился Алешиному появлению. Вышел из-за стола:
— Ну, садись, рассказывай.
— А чего? Съездил. Спасибо вам. Услал в Красноярск несколько материалов.
— Я знаю, — Василий Фокич потер потные руки. — Тебе даются очерки, а это довольно трудный жанр. Статейку любой напишет. Но очерк… — он пригладил растрепанные волосы.
— Что нового? — заинтересованно спросил Алеша, присаживаясь и поглядывая на редактора.
— Эшелоны идут на восток — вот главная новость. Видно, воевать нам с японцами, — понизив голос, сказал Василий Фокич. — Перебрасываются танки, артиллерия, пехота.
— Выходит, что война продолжается?
— Вроде так. Но ведь и обидно же… Сколько лет самураи с ножом у глотки стоят. Когда-то нужно кончать с этим.
— Нужно, — согласился Алеша.
Василий Фокич заходил по кабинету. Он собирался начать какой-то важный разговор и все не мог насмелиться.
«Наверное, что-то про фельетон. Уж не оправдался ли Елькин?» — беспокойно подумал Алеша.
Действительно, Василий Фокич заговорил о фельетоне.
Но сказал совсем не то, что ожидал Алеша. Фельетон вчера обсуждали на бюро горкома партии. Хвалили автора. Было много шума. Елькин плакал, просил снисхождения. А секретарь горкома по кадрам произнес такую обвинительную речь, что Елькина единогласно исключили из партии. Дело обещаеть быть громким.
— Ты помнишь, что я тебе толковал насчет уменья говорит с людьми? — усмехнулся Василий Фокич. — А ведь можно было испугаться и не дать фельетона… Век живи век учись.
Редактор умолк. Но Алеша знал, что сказано не все, и нетерпеливо повернулся к Василию Фокичу:
— Еще новости?
— По делу Елькина проходит тот военный.
— Ванек? Капитан?
— Да. Махинация с валенками на крупную сумму. Таких жалеть не нужно. И теперь тебе незачем ехать куда-то. Квартиру постараемся найти получше. Ну, чего?.. А, понимаю… И разговор с Верой охотно беру на себя. Даю гарантию — согласится. Городок-то у нас посмотри какой. Весь в зелени! — он подошел к окну и широким жестом пригласил Алешу.
— И все-таки хочется поработать в Хакасии.
— Смотри, Алеша, как бы не прогадать. С тобой хочет познакомиться сам первый секретарь горкома… Может, тебе порядки редакционные не нравятся, так ты говори…
— Все мне нравится у вас, но… В общем, хочется поближе к деревне, я ведь крестьянский сын. Поеду не в Абакан, а в самый отдаленный район…
— Ты подумай-ка хорошенько.
— Ладно. Мы посоветуемся, — пообещал Алеша.
В редакционной почте оказалось письмо от генерала Бабенко. Алеша вскрыл конверт. В нем был листок голубой трофейной бумаги, исписанный убористым, красивым почерком.
«Здравствуй, Алеша!
Долго размышлял я, посылать тебе письмо или нет. И решил послать, потому что ты парень добрый и честный, а я это ценю больше всего.
Дивизия наша за рубежом. Держу связь кое с кем из офицеров. А я сейчас начальником штаба в соединении, которым командует генерал Чалкин. Ты его знаешь. Неделю назад его вызывали в Ставку Верховного, и генерал вернулся из Москвы Героем Советского Союза.
Теперь о Наташе. Это — сильная и гордая натура. Больше всего ее оскорбляет жалость. Вот почему из госпиталя она не поехала домой, к отцу и матери. Живет в одном из маленьких городов на юге страны, а мальчонку Богдана, того сорванца, что рыскал по передовой, она усыновила. Специально ездила за ним под Луганск. Очень нежно к нему относится.
Тебя она очевидно, любит, но никогда вы не будете вместе. Она не захочет, чтобы ты связал с нею свою судьбу. Все дело в том, что у нее ампутировали ногу, и она ходит на костылях.
Желаю всего лучшего.
Бабенко».
Алеша ждал этого письма. Пусть теперь оно не имело для него прежнего значения, судьба Наташи была вовсе не безразлична ему. Он хотел бы, чтобы Наташа жила в счастье, если оно возможно для нее.
Едва Алеша дочитал письмо, как Василий Фокич позвал его к телефону. Звонила Вера. В трубке зазвучал ее взволнованный голос. Она говорила о каком-то сюрпризе, который должен обрадовать Алешу. Вера сейчас же явится в редакцию. Только пусть Алеша не глядит в окна. А то будет совсем неинтересно.
Он терялся в догадках, что могла принести ему Вера, Скорее всего, что-нибудь узнала о театре. Или в краевой газете дали последний присланный из Хакасии очерк. Алеша еще не видел сегодняшнего «Красноярского рабочего», который в библиотеку приносят раньше. Но при чем здесь окно?
Он некоторое время читал гранки. Но Верин сюрприз не выходил из головы, и Алеша не утерпел: подошел к окну. И сразу же увидел Веру на тротуаре. У нее ничего не было в руках. Она шла одна.
Вера встретилась глазами с Алешей и смешливо погрозила ему пальцем. А потом он услышал стук каблучков на лестнице и пошел навстречу ей.
С Верой был пожилой мужчина в военной форме. Он бросился к ошеломленному Алеше и обнял его своей единственной рукой.
— Здравствуй, Колобов! Здравствуй!
У Алеши к горлу подкатил твердый комок. Алеша только и выговорил:
— Федор Ипатьевич…
— Я предвидела, что ты будешь шпионить за мною, потому-то и послала Федора Ипатьевича чуточку вперед, — сказала Вера. — Пойдемте-ка лучше в сад!
Когда они вышли на улицу, Федя с восхищением оглядел Алешу, задержал взгляд на тросточке:
— Ты ничего! А касаемо ран, так не очень уж сокрушайся. Бывает хуже. Это совсем не главное. Помнишь слова поэта? «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустою душой». Превосходные слова! И в некотором роде я выполнил эти пожелания, — он покосился на то место, где прежде была левая рука.
— Я приглашала Федора Ипатьевича к нам, но ему нужно сегодня на рудник. Он к Петру Чалкину, — живо сказала Вера.
— Да, — подтвердил Федя. — Документики я подсобрал. Но прежде, чем посылать их, хочу поговорить с Петькой.
В саду они сели на старую скамейку, и Федя с усталым видом долго глядел на небо. Он о чем-то думал, и Вера с Алешей не мешали ему.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления