Онлайн чтение книги
Атланты и кариатиды
XXVI
Сосновский возвращался из поездки по области. Четыре дня месил колесами вездехода весеннюю грязь. Объехал все западные районы, проверял подготовку к весеннему севу. Картина открылась неровная, пестрая. Одни хозяйства вызвали радостное удовлетворение, другие — разочарование. Особенно неприятно, когда подводят те, на кого надеешься. Попадались и такие, Правда, зазнайки эти будут долго помнить его приезд. Распекал он их не за закрытыми дверьми. Там, где не требовались оргвыводы, «подтянул» председателей колхозов и директоров совхозов перед общими собраниями колхозников и рабочих. Собрания эти, не сомневался, запомнят не только руководители хозяйств, но и районное начальство.
Обдумывая результаты своей поездки, пришел к выводу, что уровень подготовки к севу, безусловно, выше, чем в прошлые годы, — больше порядка, точности, лучше отремонтированы машины, больше на полях удобрений. Значит, залог урожая налицо. Так почему ж не порадоваться? Почему не отдаться весеннему настроению? Сосновский, как все здоровые, жизнерадостные люди, умел приводить себя в доброе настроение даже после крупных неприятностей. А эта поездка дала удовлетворение. Везет целый воз фактов для доклада на пленуме. Это совсем другое дело — свои собственные факты, не то что представленные инструкторами отдела.
Зашлепанный грязью «газик» мчался по подсохшему шоссе. Весеннее солнце под вечер остыло и уже не жгло, а ласково грело щеку сквозь открытое окно. Леонид Минович снял шляпу, подставил солнцу лысину.
Шофер, не одобряя, глянул на секретаря и закрыл окно со своей стороны. Посоветовал:
— Наденьте шапку. Продует. Поросль у вас негустая.
— О небо! Это ты, чертов сын, так говоришь о моей голове?
Шофер засмеялся.
— Не о голове. О лесозащитной полосе.
— Микола! Удивляюсь, как я тебя терплю так долго? Ты без конца намекаешь на наши промашки. Я знаю, какие ты полосы имеешь в виду. Лучше спой.
Случалось, в далекой дороге, когда было скучно и хотелось спать, Микола начинал импровизировать — пел, как тунгус, обо всем, что видел перед собой или увидел за время поездки; своеобразно рисовал людей и события и мог даже пройтись — считал, что в песне все дозволено, — насчет самого Сосновского, показать, к примеру, как тот «промывал» белые косточки «князя Липского», «славного боярина» колхоза «Восход», или «рыцаря железного» «Сельхозтехники», короля неотремонтированных тракторов.
Леониду Миновичу очень нравились эти импровизации. Слушая их, он хохотал. Но по заказу Микола никогда не пел. Для этого ему нужно было особое настроение.
А если нет песни, анекдота, доброй беседы, думаешь о делах. Куда от них денешься?
Подъезжали к городу, отходили заботы деревенские, подступали городские. Думал о завтрашнем заседании бюро обкома. Очень серьезный вопрос — о перестройке руководства промышленностью, о создании производственных объединений. Работает комиссия во главе с Игнатовичем. Герасим, конечно, наметит существенные мероприятия. Человек аккуратный. Сверхаккуратный. И считает себя лучшим знатоком промышленности, города, руководителем новой формации. Сосновский хорошо знает, что секретарь горкома думает о нем. Ничего дурного. Но признает его компетенцию лишь в вопросах сельского хозяйства. Да еще, безусловно, думает, что, мол, постарел Леня, едет на старом методе. Постарел — это правда. Но не устарел. А что касается методов, то он, Сосновский, считает, что в их работе ни новых, ни старых методов нет, партийная работа — не свод правил и инструкций, старых и новых, а неустанное творчество, ежедневное и ежечасное. Можно применить и ЭВМ. Но если вот эта, полученная от родителей ЭВМ работает не на уровне требований времени, тогда, как говорится, слазь с крыши, не порти гонта.
Вот так, Герасим. Парень ты хороший, современный. Но был бы еще лучше, если б тебе немножко меньше самоуверенности и немножко больше самокритики. И еще одно: если б в дела твои не вмешивалась твоя слишком умная жена.
Сосновский все знал о своих сотрудниках. Не собирал эти сведения специально. Просто в нем жило естественное внимание к каждому человеку, к жизни любого работника. Может быть, поэтому он редко ошибался в подборе кадров, когда подбирал сам, никто не навязывал.
О Елизавете Игнатович, активной профсоюзной деятельнице, подумал с юмором. Но тут же вспомнил другого человека — Карнача. Без юмора уже. Серьезно. Карнач был на его совести. Это было одно из тех дел, которые он считал незавершенными, к которым собирался вернуться.
Разумеется, с формальной стороны постановление горкома — комар носа не подточит. Все пригнано по-игнатовичски. Карначу можно было дать по шее не только за все вместе, но и по каждому пункту в отдельности. Можно за жену — стоим на страже морали и семьи. Можно за архитектуру — там сам черт ногу сломит, это область, где легче всего белое сделать черным и наоборот. Можно стукнуть за позицию в «привязке» химкомбината — не лезь поперед батьки! Можно даже за казарму, как он называет дом на Ветряной. Секретарь обкома дает указание надстроить, а он, упрямый черт, не визирует постановления исполкома. Можно за дачу — воюем с частнособственническими тенденциями! Можно... если забыть о главном и рассматривать все с высоты своей амбиции или под нажимом разгневанной жены. Он, Сосновский, никогда так не решал судьбу человека. Допустим, для Карнача не такая уж трагедия увольнение. Но улучшится ли от этого архитектура города? Уверен ли ты в этом, Герасим Петрович? Конечно, право горкома заслушать любого работника. Но по всему видно, что решение о главном архитекторе возникло не в процессе обсуждения. Вот это и насторожило, когда Игнатович пришел и сообщил, что бюро горкома освободило Карнача от должности. Все правильно, дорогой Герасим Петрович. Но обычно, будучи человеком осторожным, ты в подобных ситуациях не ставил меня перед фактом, а советовался загодя. Между прочим, это совсем не плохое качество — умение посоветоваться, если, разумеется, качество это не перерастает в обыкновенную перестраховку.
С Карначом Игнатович проявил подозрительную поспешность. Сосновский сразу же подумал об этом и решил лично поинтересоваться некоторыми деталями этого дела. Покуда неофициально. За две недели о многом узнал. Как, например, шло обсуждение работы архитектурного управления. Как кто себя вел на бюро. Объяснить поведение Карнача можно по-разному: как анархический взбрык, что с ним случалось, и как реакцию человека, который заранее знал свой приговор, знал, что его выступление ничего не изменит, поэтому нечего зря тратить энергию. Тем более что был он, очевидно, нездоров, так как сразу же после бюро свалился — грипп.
Странно вел себя Игнатович. Не по-игнатовичски. Явно неуверенно. Понять его нетрудно.
Заслуживает особого внимания позиция председателя горисполкома Кислюка, который один долго и упорно, как ни нажимали на него, не соглашался — и не согласился! — с предложением об освобождении Карнача от должности. А Игнатовичу очень хотелось, чтоб решение было единогласным. Независимо от того, прав был Кислюк или не прав, он как бы реабилитировал себя перед Сосновским, потому что после истории с квартирой мнение Леонида Миновича о председателе было не из лучших, считал, что выдвижение Кислюка на этот пост — одна из их ошибок. Кислюк как бы подтвердил старую истину: каждый человек загадка, и разгадать ее сразу нелегко.
Он, Сосновский, совсем не хочет бросить тень на других членов бюро, дело сложное и деликатное. Но, может быть, один Кислюк понял, что из-за второстепенного, личного кое-кто забывает о более важном, существенном — интересах города. Конечно, это пока его субъективные соображения и догадки. Их следует проверить. Каким образом? Несомненно одно: сделать надо так, чтоб не дать повода заподозрить его в недоверии к серьезному коллегиальному органу.
— Микола, знаешь, где Волчий Лог?
— Деревня?
— Деревня на шоссе. Садовый кооператив нашего актива.
— У меня у самого там участок.
— У тебя? — Сосновский удивился и разочарованно крякнул. «Вот тебе и знаю людей! Три года езжу с шофером и ни разу до сих пор не слышал ни от него, ни от кого другого о такой немаловажной стороне его жизни».
— Сверни. Посмотрим ваш хутор.
Шофер глянул настороженно: что это секретарю пришло в голову?
Леонид Минович решил слегка пугнуть его за то, что тот так долго скрывал свою частную собственность,
— А что, если мы прикроем эту лавочку? Микола тяжело вздохнул.
— Помрут некоторые.
Сосновский едва удержался, чтоб не захохотать.
— Да ну? Что ты говоришь?
— Моя теща первая отдаст концы. Она только и живет здесь, на земле. В городе на пятом этаже чахнет. Прямо жалко старуху.
Сказал Микола о теще так серьезно, что шутить на этот счет показалось неуместным. Леонид Минович хорошо знал и понимал эту «земельную ностальгию».
Максим услышал шум машины и сверху увидел Сосновского. Подумал с недоумением: «А ему что надобно?» Понаблюдал, как секретарь осматривает его «храмок». Спуститься или не стоит? Решил, не стоит. Если Сосновский приехал к нему, пускай поднимается сюда, в мастерскую. Если же заглянул, чтоб убедиться в нарушении инструкции о садово-огородных кооперативах (нарисует потом сатирическую картинку в очередном докладе), тем более нечего ему показываться на глаза, а то еще, чего доброго, подумает, что он выскочил навстречу в качестве просителя... милости.
После болезни Максим работал так, как в молодости по окончании института, когда верил, что станет великим зодчим. Великим не стал, однако прожил не без пользы, а потому всегда работал с подъемом и радостью, хотя, конечно, не с тем уже молодым пылом, не по пятнадцати часов в сутки. А эту неделю — именно так. Резал портрет матери... Но, еще лежа в постели, в одиночестве, мысленно завершая портрет, он почувствовал, что скульптура получается неплохой, но это не то, что виделось ему поначалу. Чтоб создать такой скульптурный памятник матери, какой она заслужила своей жизнью, у него не хватит ни умения, ни опыта. Памятник он может создать только архитектурный. И, может быть, как раз в ту минуту, когда мать испускала последний вздох, ему подсказали тему такого памятника. Новое родное село!
В тот день, когда он твердо решил, какой построить матери памятник, и, лежа в постели, начал набрасывать проект, за один день создал общий облик новой Карначовки, у него даже подскочила температура. Это напугало Галину Владимировну, которая приехала навестить больного после работы. Милая и мужественная женщина! Ты очаровала меня и вернула к жизни. Но я тебя боюсь. Боюсь, потому что не уверен, что смогу дать тебе то счастье, какого ты заслуживаешь и которого тебе по-женски так хочется.
Галина — единственное, что тревожило в последние две недели. А больше ничего, потому что все осталось позади, за высоким и трудным перевалом. Впереди солнечная долина, и там величайшая и не имеющая конца радость — работа, которую он любит, которой посвятил жизнь.
Сосновский крикнул снизу:
— Есть тут живая душа?
— Есть! Милости прошу.
— Где ты там? На небеси?
Поднимался по крутой и узкой лестнице тяжело, даже бренчали стекла в легкотипной мансарде. Ворчал что-то. Остановился, явно пораженный необыкновенной комнатой, залитой вечерним солнцем, засыпанной мелкой стружкой, с листами проектов на столе, на стене, на рамах, на стульях и даже на полу. А может быть, и хозяин его поразил, который в ожидании гостя стоял возле витража. Максим отрастил бороду, густую и черную. С такой бородой, в парусиновой робе и в сапогах, он являл собой классический образ цыгана. В руке резец, как нож. Только кнута не хватало.
Оглядев мансарду с неподдельным удивлением, Сосновский посмотрел на хозяина с веселой, доброй улыбкой.
— А вы и впрямь на небе. Что бог Саваоф, Теперь буду знать, как выглядит мастерская бога.
Пожал руку, спросил, кивнув на незавершенную скульптуру:
— Мать?
И, сняв шляпу, минуту постоял, склонив голову. Максима тронуло, что Сосновский знает о смерти матери и так тактично, без слов выразил и свое уважение к ней, и сочувствие ему.
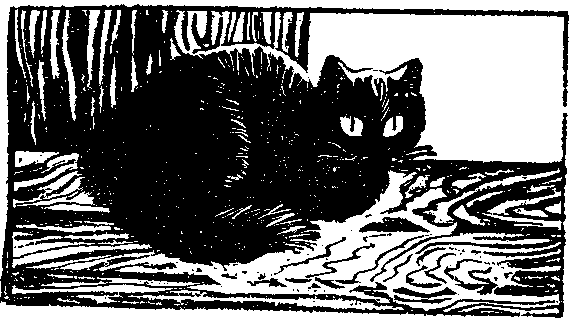
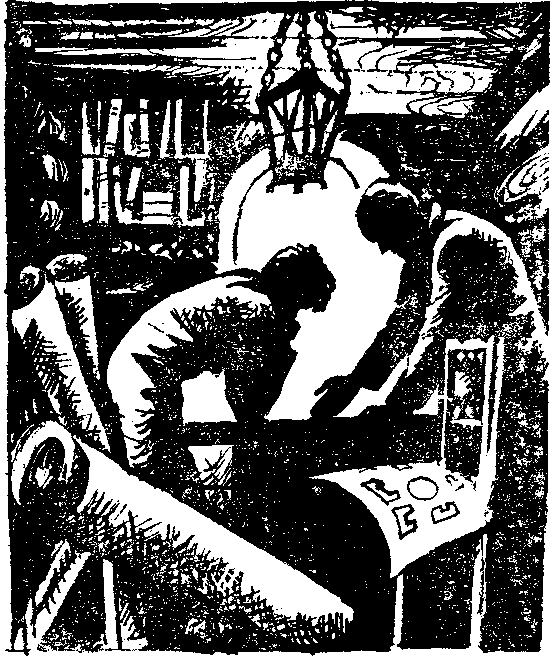
Потом, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь сломать, разрушить, Леонид Минович обошел скульптуру и осмотрел уже как произведение искусства, внимательно, с интересом, что тоже понравилось Максиму. Он давно уже открыл, что при внешней грубоватости Сосновский — душевно деликатный человек, куда более тонкий, чем некоторые внешне лощеные люди.
— Что ж вы скрывали свой талант скульптора?
— Потому что я не скульптор. Может быть, мог бы им стать, если б не продал душу неблагодарной музе...
Сосновский посмотрел на хозяина, хитро и озорно прищурившись. Но вспомнил, что пережил Карнач, и сказал серьезно:
— Не такая уж она неблагодарная, ваша муза.
— Архитектура? Что неверная жена. Мучаешься, ревнуешь, бранишь, а все равно любишь.
Сосновский засмеялся.
Но подумал, что Карнач сразу вызывает его на разговор обо всех своих грехах, а он ехал сюда совсем не с целью напомнить о них еще раз, — довольно, что ему поставили в счет все, что надо и что, может, не надо, на бюро горкома.
Сосновский повернулся к листам проекта. Посмотрел один на стене, другой на столе, и Максим увидел, что секретарь вдруг насторожился, как боевой конь, заслышав звуки горна. Быстро пробежал глазами эскизы на стене, перебрал листы, висевшие на стуле, и с ватманом в руке резко обернулся к Максиму, без околичностей, ревниво и почти сердито спросил:
— Для кого?
— Для души.
— Не морочь голову. Такой проект для души не делают. Кто заказал?
— Добрые люди.
Сосновский сердито бросил лист с планировкой, колхозного центра обратно на стул. Сказал не шутя:
— Напрасно вам бюро горкома не записало строгача. Работаете у нас...
— Я не работаю у вас!
Вырвалось это с болью — крик души. Но сказал и похолодел, ведь он решил никуда не уезжать, просить работу в институте. Однако после такого заявления секретарю обкома...
Сосновский тоже почувствовал неловкость: нельзя сейчас кидать такой упрек. Это что соль на свежую рану. Сказал примирительно:
— Насчет выговора я пошутил. Не обращай внимания.
Максим тоже осторожно дал задний ход:
— Это деревня, где я родился. Там похоронены мои родители...
Сосновский снова начал разглядывать листы. Расспрашивал о подробностях. О материале. Прикидывал стоимость. И вдруг стал критиковать довольно строго, отбросив ту щепетильность, с какой говорил о скульптуре.
Максим это сперва воспринял как неожиданный щелчок в нос. Он даже разозлился: «Все великие знатоки. Все лезут в критики».
Но, прислушавшись к замечаниям более внимательно, понял, что Сосновский куда лучше его знает современную деревню, ее нужды, перспективы развития фабрик хлеба, мяса и молока, что он делает очень интересные экономические и демографические прогнозы.
— Не нужна будет вашей деревне такая школа. Поверьте мне, Максим Евтихиевич. По количеству мест. И тип школы у вас старый. Он теперь уже не удовлетворяет. Условия производства, научно-техническая революция требуют совсем другой школы, особенно на селе.
Спорили о жилых домах. Максим стоял за одноквартирные, типа коттеджей. Деревня, мол, есть деревня, и хотя экономически, может быть, выгодно, но абсурдно строить стоквартирные дома. Какой архитектурный облик будет иметь такой поселок? Два-три дома в чистом поле?
Сосновский придерживался другого мнения. Стоквартирных не нужно, но и разбрасывать деревню на километры, растягивать коммуникации непрактично и невыгодно. Если у сельских рабочих исчезнет потребность держать свиней и кур, людям захочется жить в большем коллективе.
— Но большой дом — это не коллектив. Практика говорит о другом. Наиболее коммуникабельны люди в деревне. И меньше всего — в стоквартирном доме, даже когда жители его работают на одном предприятии,
Долго спорили. Максим забыл, что перед ним секретарь обкома. Перед ним был такой же, как и он, горячий полемист, который высказывался без оглядки на свое положение.
Сосновский все больше и больше раскрывался как глубокий и увлеченный знаток новой деревни. Рассказывал о том, о чем Максим и представления не имел; стало даже стыдно, что, увлекшись идеей, он, опытный архитектор, так по-дилетантски, на одних эмоциях взялся за осуществление столь ответственного заказа. Показалось, что проектировать село проще, чем город. А вот выходит, что нет, не легче, а труднее, многое надо будет изучать специально.
Он взял карандаш и отдельные эскизы стал перечеркивать, над другими ставил вопросительные знаки и тут же на ватмане записывал те замечания Сосновского, с которыми согласился или над которыми следовало подумать.
Солнце позолотило набухшие почки берез, росших под окном. От белых берез на проекты упали красные тени. Должно быть, увидев эти тени, Сосновский взглянул на часы. Проговорили часа два.
— Знаешь, я сегодня не обедал. Как позавтракал в Займище...
Максим смутился.
— У меня нечем вас попотчевать.
— Неужто и хлеба нет? — озабоченно удивился Леонид Минович.
— Хлеб есть. Сало... Лук...
— Ха! А ты говоришь, нечем! Зажирели мы с тобой. Да если к такой закуси прибавить бутылку водки, которая есть у моего Миколы, так можем пировать до утра.
За столом все еще продолжали разговор о проекте села. Но Максим уже не спорил с Сосновским, как наверху, в мастерской, а больше соглашался. Здесь, за столом, он как бы вошел в новую роль — хозяина. Да и дистанцию вдруг почувствовал, неведомо почему. А Сосновскому явно не нравилась эта его покорная учтивость, и он цеплялся, как мальчишка-задира. Начал критиковать дачу, которой обычно все гости восхищались. Критиковал дельно: за несоответствие внешней формы внутреннему содержанию жилья. Тут, внутри, все функционально целесообразно, просто, практично, красиво. А извне — конфетка, сказочный домик. Максим не мог объяснить, что строил он для Веты, которой было тогда четырнадцать лет. И для Даши, которая любит все яркое, необычное. А интерьер делал для себя, для работы. Даже кухню оборудовал на свой вкус.
Максима порадовало, что Сосновский говорит о даче не как об атрибуте окулачивания и перерождения, а как о серьезном архитектурном эксперименте, хвалит то, что стоило бы ввести в практику строительства зон отдыха, и не одобряет того, что делалось для удовлетворения вкуса одного или двух человек. Но такое, казалось бы, далекое, весьма косвенное и ненамеренное напоминание гостя о Вете и Даше почему-то ранило больнее, чем когда он в одиночестве сам думал о них; с любовью — о дочери, с гневом и почти ненавистью — о жене... Чтоб отвязаться от этих мыслей, стал внимательнее слушать гостя, любовался, как хорошо, по-деревенски вкусно Сосновский ест черствый хлеб, лук и сало.
Потом, как и на бюро, Максим подумал, что ему следует воспользоваться случаем, чтобы помочь Виктору Шугачеву. Рассказал Сосновскому о шугачевской идее Заречного района и о тех трудностях, которые встали перед архитектором.
— Шугачев — выдающийся архитектор, а его затюкали, свели до ординарного. Примите его, Леонид Минович, послушайте... Посмотрите эскизы.
Сосновский слушал внимательно, серьезно, но несколько настороженно. Не сказав ничего насчет Шугачева, вдруг спросил:
— Максим Евтихиевич, вы могли бы остаться на прежней должности?
Максим почувствовал, как непривычно екнуло сердце. Радостно. Никогда не думал, что для него это столь важно — такая реабилитация. Без проборки, без наставлений. И очень тактично: может ли он остаться на должности главного архитектора? Не спросил, хочет ли. Именно, может ли? А в самом деле, может ли он? Ни разу на подумал об этом, считая, что никто не станет возвращать его, а сам он никогда просить не будет — гордость не позволит. Что же ответить на такой совершенно неожиданный и, конечно, непростой вопрос?
— А что скажет Игнатович? Он перестал меня понимать.
— А вы его?
— Да. Это, пожалуй, правильнее, я перестал его понимать. А он всерьез занимается архитектурой.
— Не иронизируйте над нашим братом. Мы не универсалы. И не боги. Мы люди, и каждый из нас может ошибиться.
— Я не иронизирую.
— По нашему самолюбию и гордости бьют иной раз и похлеще.
— Я знаю.
— Тогда должны понять.
«Что же ему ответить? — лихорадочно думал Максим. — Сразу согласиться?»
Нет, не мог. Но и отказаться боялся.
А Сосновский как бы спохватился, что превысил свои полномочия.
— Пораздумай на досуге. Но не считай, что архиепископ Сосновский отпускает тебе все твои грехи, грехи свои будешь замаливать сам, — и, засмеявшись, поднял рюмку. — Давай по последней. А остальное на компрессы оставь. Бороду сбрей, на кой тебе это помело?
У Игнатовича был трудный день. Не по работе. В этом смысле легких дней не бывает. Работы всегда достаточно.
Он правил свой доклад для конференции изобретателей и рационализаторов, которая начиналась через час. В кабинет, как всегда неслышно, вошла Галина Владимировна. Его обрадовало, что ее присутствие опять не мешает ему. Было короткое время, когда оно его раздражало. После того как она попросила разрешения съездить к Карначу. Несколько дней он настораживался, когда она входила, отрывался от работы, опасаясь, что опять услышит от нее что-нибудь неожиданное. Но Галина Владимировна работала, как раньше, ровно и спокойно. И он пришел к решению, что молодая вдова имеет право на интимную жизнь и теперь, когда Карнач уже отрезанный ломоть, он может себе позволить не обращать внимания на ее отношения с бывшим главным архитектором. Только не надо ничего говорить Лизе.
Галина Владимировна сказала:
— К вам хочет зайти директор школы Бондаренко. Не сразу дошло, что это директор той школы, где учится Марина, и он, не отрываясь от доклада, вздохнув, сказал:
— Ох, сколько людей хочет ко мне зайти! Назначьте ему на пятницу.
— Он насчет вашей дочки.
Герасима Петровича словно током ударило. Он несмело поднял голову. Галина Владимировна чуть заметно улыбнулась, как всегда, а ему показалось, что она что-то знает и улыбка у нее недобрая, злорадная.
Он прямо испугался, потому что знал, что самый злой враг не может его так скомпрометировать, как собственная дочь. От Марины можно ждать чего угодно. Не ребенок, а чертенок.
— Позвоните, что я сам зайду в школу.
На конференции он выступал без того подъема, какого требовал такой первостепенной важности вопрос, как научно-технический прогресс и задачи изобретателей. Невнимательно слушал ораторов.
В обеденный перерыв поехал в школу.
У директора была молодая учительница, и Бондаренко попросил его минутку подождать. Это царапнуло по самолюбию, тем более что ждать надо было в учительской, где сидели несколько педагогов; они, конечно, знали, кто он, потому и поглядывали с любопытством.
Выскочила из кабинета учительница, вся красная, и он, не ожидая приглашения, вошел, чуть не столкнувшись в дверях с немолодым, но энергичным, стремительным директором. Бондаренко закрыл за его спиной дверь, и он нетерпеливо спросил:
— Что случилось?
Но заслуженный педагог не спешил с ответом.
— Садитесь, Герасим Петрович. Вы у нас редко бываете, — кольнул-таки. — Помните, вам не нравилась наша обстановка? Ну, как теперь? — развел руками, приглашая посмотреть интерьер его кабинета.
— Теперь хорошо. — Герасиму Петровичу было не до мебели. — Что натворила Марина?
— Я хотел бы, чтобы вы посмотрели наши лаборатории. Мы неплохо оборудовали кабинеты. Не хуже, чем в шестнадцатой показательной, где постоянно сидит все гороно. Если б гороно свое внимание делило поровну...
«Он что, издевается, этот хитрец? Таким способом зазвал меня осматривать кабинеты?» — Все больше настораживали независимость и какая-то чрезмерная уверенность Бондаренко.
— Что с Мариной?
— А что с Мариной? Ничего с Мариной. Марина — дитя нашего времени. Умная. Развитая. Бывает, поленивается. Бывает. Но кто из них не ленится, Герасим Петрович? Если б все старались, то нам, педагогам, нечего было б делать. Марина — остроумная девочка, С юмором. Но юмор — это же драгоценнейшее качество. По мне, так я просто не обратил бы внимания. Мало ли что могут написать дети. Но преподавательница молодая, неопытная, у нее не хватило такта. Она показала сочинение своим коллегам. Устроили коллективное чтение. Поэтому, знаете, я вынужден был вас побеспокоить... Марина не должна так писать... При вашем положении...
Говоря это, директор явно нарочно долго копался в стопке бумаг и тетрадей, искал Маринину тетрадку, обернутую знакомой цветной бумагой.
Герасим Петрович (потом неприятно было вспоминать этот свой жест) почти выхватил тетрадь из его рук.
Прочитал сочинение и втайне с облегчением вздохнул: слава богу, не самое худшее.
Марина с юмором, с недетским юмором, описала, как ее дома воспитывают. Ничего такого, что бы могло его скомпрометировать, но все же в живом рассказе все они — он, мать, брат и сама Марина — выглядят довольно забавно. Раза два он не сдержал улыбки, хотя чувствовал, что директор не сводит с него внимательных хитрых глаз.
— Ну, это ерунда, — сказал Игнатович, дочитав сочинение. Сказал даже как бы с укором: мол, из-за этого можно было бы и не беспокоить.
— Так я и говорю, что ерунда. Но я счел своей обязанностью... Знаете, Марине не следовало бы забывать, кто ее отец. Это единственное, что от нее требуется.... Если вы согласны...
— Да, разумеется... Спасибо вам.
— А юмор — драгоценнейшее качество. Юмор, пожалуйста, не глушите... Кабинеты посмотрим, Герасим Петровичу,
— Нет, к сожалению, не могу. У меня конференция.
— Жаль. Признаться, хотел высказать одну просьбу... Но потом, потом... У вас веселая семья.
— Да, веселая.
— Я вам завидую. У моих детей нет чувства юмора. А как сказал старый одессит: пускай меня ограбят, но с юмором. Будет легче.
На вечернем заседании, вспомнив эти слова директора, Игнатович подумал, что Маринины шуточки насчет воспитания совсем небезобидны, они вовсе не детские, это идет от чужих взрослых и недоброжелательных людей. И он настроился против дочки: хватит ей потакать, совсем распустилась девчонка.
Вечером вместе с Лизой он учинил над Мариной суд.
Марина знала, что за сочинение ей достанется либо в школе, либо дома, а скорее всего и там и там. В классе ей сочинение пока что не вернули, учительница сделала вид, что тетради — ее и еще одной ученицы — забыла дома, даже поахала над своей рассеянностью. Наивные люди эти учителя, да и родители тоже, думают, что она ничего не смыслит и так легко поверит их нехитрой выдумке.
По отцовскому виду Марина сразу поняла, откуда ждать грозы, и подготовилась соответствующим образом. Когда «верховные судьи», отец и мать, вызвали ее на допрос, у нее уже была выработана тактика.
— Марина, я прошу серьезно выслушать то, что мы тебе скажем.
— Я всегда серьезна, мамочка, — послушно ответила дочка и даже реверансик сделала; потом ругала себя, что перехватила и испортила интересный спектакль, потому что отца, очевидно, взорвал этот реверансик и он заговорил строго, без предисловий:
— Ты что написала?
Она попробовала продолжить игру:
— О чем ты?
— Ты не знаешь о чем?
— Каюсь, папочка, первый раз написала записочку. Все девочки давно пишут.
— Какую записочку?
— Толику Баранову. Любовную.
— О боже, — простонала Лиза.
Но Герасима Петровича любовная записочка мало волновала, он отгадал дочкину хитрость, его не обманула ее притворная покорность, не так она обычно разговаривала с ними.
— Не прикидывайся дурочкой. И не заговаривай мне зубы. Я говорю о сочинении...
— А-а... А я ломаю голову, почему эта бестолковая Тамара не отдала мне тетрадку. Она показала ее Ивану, а Иван принес тебе. Не стыдно им из-за таких мелочей беспокоить секретаря горкома? Я на твоем месте...
Не выдержала мать, гневно закричала:
— Марина! Гадкая девчонка! Как ты говоришь об учителях?!
— А как о них надо говорить?
Герасим Петрович ходил вокруг стола, едва сдерживая гнев.
Лиза и Марина сидели за столом друг против друга, и дочка улыбалась так, будто жалела мать.
— Ты чересчур грамотная!
— А как же, папа! Меня ведь учат. Дома... В школе...
— Брось кривляться, чертово семя!
— Если вы хотите, чтоб я молчала, я буду молчать. Я послушная. И я чертова, а не ваша...
— Нет, ты полюбуйся, какую цацу ты вырастила!
— Я вырастила? Вместе растили.
Не хватает еще поссориться с женой!
Герасим Петрович промолчал, походил, заложив руки за спину.
— Нет, ты хоть понимаешь, что ты написала?
Марина изменила тактику и перешла в наступление:
— А что, разве неправду?
— Ты компрометируешь меня и мать!
— Что ты, папа! Я просто хотела показать, какую глупую тему нам дали: «Я и мои родители».
— Чем же она глупая? — спросила Лиза.
— Пускай бы они лучше дали «Я и мои учителя». Вот бы я им написала! Они бы там в обморок все попадали в учительской. Во главе с заслуженным... Лежали бы без чувств.
Герасим Петрович схватился за голову. Крикнул жене:
— Нет, ты послушай, что она говорит! Ты вдумайся!
Не впервые Герасим Петрович с горечью сознавал, что он, которого слушаются взрослые, серьезные люди, кто своей железной, как говорит Довжик, логикой может убедить любого и словом своим поднять на большие дела тысячи, не может справиться с одной девчонкой, собственной дочерью, и часто чувствует себя перед ней безоружным и беспомощным. Какой метод воспитания применить? Дедовский ремень! Но попробуй ударить такую чертовку! Она и правда может пожаловаться Сосновскому. Ведь угрожала! И даст Лене пищу для его неуместных шуток.
Тут Герасим Петрович увидел, что Марина достает из кармана фартучка вату и засовывает себе в уши.
— Ты что делаешь?! — крикнул он так, что Лиза испуганно подскочила, не сразу сообразив, что его так взорвало.
— Затыкаю уши, — спокойно ответила Марина. — Боюсь за перепонки.
Терпение лопнуло, и он, наверно, дал бы дочке добрую оплеуху впервые в жизни, но его остановил резкий телефонный звонок.
Он на мгновение замер, но, когда к телефону двинулась Лиза, бросился сам, понимая, что это спасение от позорного поступка. В трубку крикнул сердито:
— Слушаю!
— Что так грозно? — раздался насмешливый голос Сосновского.
— Простите, Леонид Минович.
— Почему запыхался? Оторвал от приятного дела?
Как, может быть, никогда, Игнатовичу хотелось крикнуть: «Пошел ты... со своими шуточками!»
— Да нет, ничего. Смотрю телевизор.
— Счастливый человек. Что нового?
— Да, кажется, ничего такого...
— А я только что из районов. Заехал в обком и узнал новость. Есть постановление Совета Министров о строительстве комбината в Озерище.
— Я знаю.
— А я хотел тебя обрадовать. Карнач проявил высокую принципиальность, написав письмо. В то время как многие из нас «хенде хох» перед министерством. Будем честны и скажем ему спасибо. Карначу. Это тот вариант, когда и волки сыты, и овцы целы.
Холодный пот залил спину. И ноги — как чужие. Не находил нужных слов. Что ответить на это? Пауза затянулась, и Сосновский окликнул:
— Алло!
Наконец, кажется, пришло то, что надо сказать:
— Карнача освободили не из-за комбината.
— Однако, признайся, ставили и это лыко в строку. Грехи подбирать мы умеем. Слушай, ты уверен, что мы с тобой в данном вопросе оказались Соломонами?
Игнатович разозлился. Опять «мы с тобой»...
— Людей надо воспитывать. Особенно таких...
«Какой глупый ответ. Что это со мной? А толстяк уже обрадовался...»
— Золотые твои слова, Герасим, — весело прогудел Сосновский. — Но, надеюсь, ты не считаешь, что выбросить человека — это лучший метод воспитания. Ведь не считаешь?
Герасим Петрович вытер лоб. И Сосновский точно увидел этот его жест.
— Нелегко, Герасим, нам с тобой. Понимаю, Но давай подумаем, как самим исправить сделанное. Мы, конечно, можем поправить вас официально. Но зачем это вам? Это уже, как говорится, щелчок в нос. А вы люди взрослые, серьезные, ответственные... Сами умеете исправлять свои ошибки. Поговори с членами бюро... А потом съезди к Карначу, пока его не переманил кто-нибудь из добрых соседей. Такие кадры на земле не валяются. Он у себя на даче. Кстати, знаешь, что он хворал? Конечно, знаешь. Попроси его вернуться.,.
— Попросить? — прошептал Игнатович и сам испугался, что так нелепо выдает себя и так нерешительно, как школьник, держится. Нет, он будет спорить, не соглашаться! Пускай возвращают Карнача, но баз него! Он не пойдет на такое унижение!
В голосе Сосновского послышался смех, этот старый зубр и по телефону видит каждый его жест, выражение лица.
— Ладно. Разрешаю. Попроси от моего имени. Так тебе будет легче. Договорились? Алло! Ты слышишь?
— Я слушаю, Леонид Минович.
— Значит, договорились. С умным человеком легко говорить. Ну, будь здоров. Смотри телевизор. Алло, алло! Между прочим, насколько мне известно, коровы у него на даче нет. И самогонного аппарата тоже. Учти это, когда поедешь.
Игнатович опустил трубку и какое-то время смотрел на нее.
Лиза, которая внимательно следила за мужем, по его коротким репликам поняла, о ком идет речь, догадалась, в каком духе, и, взволнованная не меньше его, нетерпеливо спросила:
— Что он сказал?
Герасим Петрович бросил трубку на рычаг и крикнул:
— Сказал, что ты и твоя сестра... — но увидел дочку и осекся.
А Марина поднялась, собираясь уйти к себе в комнату, и с язвительной улыбкой сказала:
— Говори смело, папа. У меня заткнуты уши. Герасим Петрович испугался сам себя. Выскочил в коридор, схватил с вешалки плащ, забыв шляпу, и выбежал на площадку; перепрыгивая через четыре ступеньки, слетел вниз. На улице жадно, словно вырвался из чадного помещения, полной грудью вдохнул влажный — с реки — воздух.
Вечер был чудесный. Весна. Можно и погулять, Полюбоваться городом.
1970—1974
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления