Онлайн чтение книги
Атланты и кариатиды
V
Такая депрессия впервые охватила его тогда, когда Даша начала свои сеансы упорного молчания. Безразличие ко всему, бездумие и безволие — ни за что не хочется браться, ничего не хочется решать — перед сколько-нибудь серьезными проблемами мозг, казалось, ставит непроницаемую преграду, в голову лезет один мусор, мелочные, никчемные мыслишки.
Тогда такое состояние испугало. Но с течением времени, когда Даша стала замолкать все чаще и депрессия начала возвращаться, он привык — защитная реакция организма. Если бы не эта заторможенность, он мог бы невесть что натворить. А так посидишь часок-другой с сумбуром в голове и помаленьку возвращаешься к нормальной жизни и творчеству. Пирушка, выпивка не помогают, наоборот, еще более углубляют и затягивают это состояние. Лучше всего — трезвое одиночество.
После разговора с Игнатовичем хотелось удрать в свой Волчий Лог, покормить синиц, побеседовать с Бароном. Но в горсовете ждали люди, сознание служебного долга победило.
Глядя на пыльные свертки проектов на шкафу и думая о том, что надо сказать уборщицам, чтоб вытирали там пыль, Максим слушал работников своего управления, подписывал бумаги, не углубляясь в их содержание.
Тамара Лапич из бюро инвентаризации, с которой любил пошутить, выслушивая ее жалобы на мужа, тренера футбольной команды, озабоченно спросила:
— У вас не грипп, Максим Евтихиевич?
Он удивился:
— Грипп? Почему грипп?
— Вид у вас какой-то...
— А-а... вчера перепил, — соврал он, чтобы поскорей отвязаться от женщины, которая явно заигрывала с ним.
Тамара засмеялась.
— Максим Евтихиевич, вы прямо ребенок!
— Почему ребенок?
— Ну, кто бы, занимая такую должность, признался, что перепил? Начальство только боржом пьет... Молоко и то им не разрешается.
— Я плохой начальник.
— Дай бог, чтоб все такие были.
— Тамара Федоровна, это же подхалимаж.
После своих пошли посетители. С ними было трудней. Их надо выслушивать, потому что дела такого рода, входящие в компетенцию главного архитектора, как правило, запутаны, иной раз, слушая какого-нибудь частника, не сразу и до сути доберешься — чего же он хочет? Тем более трудно сегодня, когда в голову лезет черт знает что.
«В приборе высохли чернила. Никто теперь не пользуется приборами, а их все еще покупают и ставят на столы».
«Сапожки на женщине заметно разнятся по цвету: один темнее, другой светлее. Явный брак может создать моду. Надо поискать примеры такого парадокса».
Явился на прием старик, которого Карнач давно знал. Все его знали в исполкоме, этого бородатого старовера, три года он обивает пороги разных учреждений.
Дом его с хорошим садом оказался в квартале новой застройки. Надо было сносить. Но дед отказался от квартиры в новом доме. Он не мог жить без собственной крепости, а потому потребовал, чтоб ему построили такой же дом в Заречном районе, у леса, где в то время еще отводились участки под индивидуальную застройку. И чтоб посадили сад. Требования его вдвое превышали нормы расходов на такой перенос. Возразили финансисты. Но закон защищал права собственника. Дед знал законы лучше любого юриста. Уговаривали его не только официальные органы, но и собственные дети, ничто не помогло — старовер был упрям, как козел.
Игнатовичу, который в то время был председателем исполкома, надоело заниматься его заявлениями и жалобами, и он решил: не трогайте, черт с ним, пускай остается; начнется строительство, сам попросит, чтоб перенесли или дали квартиру в новом доме. Игнатович ошибся, он не знал, что такое староверческое упрямство. С обеих сторон садика выросли пятиэтажные каменные дома, а дед никуда не просится, только по верху сетки, которой огорожена его крепость, пустил колючую проволоку, чтоб не лазили дети. А когда жители кооперативного дома написали заявление с просьбой снести домик частника, старик отомстил им по-своему: перенес уборную с дальнего конца сада под окна жалобщиков.
Максима история эта когда-то забавляла. Когда начинали планировку квартала, он настойчиво требовал, чтобы нашли средства и удовлетворили желание старовера переселиться в Заречный район. Его не послушались. Пускай же теперь разбираются те, кто хотел сэкономить какую-то ерунду в то время, когда планировалась застройка на миллионы рублей. Старовер этот — что прыщ на носу. Но теперь уже не только у архитектуры.
Старика обязали снести уборную. Но, пока добивались, чтоб он выполнил решение (милиция не знала, как его заставить, — деликатное дело), возмущенные жильцы управились сами: ночью разнесли в щепу дедову «скворечню». И своей поспешностью посадили старовера, как говорится, «на коня»: теперь он ходит по учреждениям уже как истец, а не как ответчик. И похоже, что сутяжничество стало смыслом его жизни.
Максим в начале этой староверческой эпопеи разговаривал со стариком с веселым юмором, терпеливо, часто не только о конкретном деле, а вообще о жизни: интересовала философия этого бородача, который, проповедуя старую веру, в то же время прекрасно умел приспособиться к новым условиям, отлично изучил законы, охранявшие его общественные, имущественные и все прочие права.
Старовер знал, что главный архитектор добивался переноса его «цитадели», к тому же умел внимательно выслушать и поговорить на разные темы, и в других учреждениях ставил Карнача в пример: мол, единственный начальник, который понимает простого человека. Наверно, делал это не без умысла — неплохо иметь авторитетного защитника на будущее, потому что знал, что не один год ему судиться с городскими властями и новыми соседями.
Максим сперва даже обрадовался, увидев знакомую бороду. Дед не лишен юмора, с ним можно весело поболтать, немного позабавиться и забыть обо всех серьезных проблемах.
Но старовер кипел гневом и требовал, чтоб архитектор тут же поехал и показал, где имеет право он, хозяин участка, отгородить клочок для неотложной нужды; искать средства заставить «фулиганов» из соседнего дома восстановить разрушенное строение он будет в другом месте.
Максим сразу почувствовал, что гнев старовера — дымовая завеса, на самом же деле этот бородатый тип издевается над законами, строительными порядками, регламентациями и над ним, главным архитектором, тоже. Подумал, какими вонючими делами приходится заниматься! И тут же вспомнил попрек Игнатовича и свою борьбу за то, чтоб главный архитектор был главным в том, что имеет отношение к архитектуре. Вдруг показалось, что победа, которой он когда-то радовался и которой похвалялся перед коллегами, мифическая, что ничего не изменилось и роль его — вот она, вся ее суть в этом «староверческом деле».
Депрессия, сделавшая его безразличным ко всему на свете, вдруг обернулась раздражительностью и злостью. На кого? На этого старика? На него тоже. Но и на себя самого. На свою должность.
Максим сжал подлокотники кресла и уставился в бумаги на столе, чтоб не смотреть в наглые маслянистые глазки старовера, на его совсем молодой, без морщин, лоб — единственное место, не заросшее шерстью.
— Послушайте, Маслобоев, — и тут же подумал: «Фамилия — как нарочно придуманная». — Вам же предлагали канализацию. В доме у вас места хватает..;
— Паскудство это великое и противное богу — нужник в доме. У меня в доме святой дух живет.
— Значит, ваш дух и святой дух не уживаются вместе? И потому вы свой дух подсунули соседям?
Маслобоев на миг смешался. Но тут же загудел, укоризненно качая головой:
— Нехорошо, начальник, смеяться над старым человеком и над его верой. Веру мою вам все одно не поколебать. Я знаю, что бог принимает из того, что теперь творится на земле, а чего не принимает.
— Много он вам доверил, бог. Это он посоветовал вам подсунуть ваш «святой дух» грешным?
— Не оскорбляйте бога, начальник. Я не за тем к вам пришел. Я покоряюсь власти, хотя поступает она несправедливо. Укажите мне, где поставить, и все.
Максим тяжело поднялся с кресла, отступил в сторону; он кипел, но сдерживался.
— Знаете что, Маслобоев?
— Что?
— Садитесь на мое место...
Старовер, как бы почуяв подвох, тоже настороженно привстал.
— Не надо мне вашего места. Я сижу на своем, куда бог посадил.
— Нет! Садитесь! И пошлите меня...
Маслобоев не обиделся, не возмутился. Он почти обрадовался, что вывел из терпения еще одного представителя власти, самого терпеливого, и что получил возможность написать еще одну жалобу. Глазки его, казалось, даже завертелись, и он закричал фальцетом:
— Так! Так! Так! Вот так, значит, говорят с советским человеком?
Больше Максим сдерживаться не мог. Загремел на весь горсовет:
— Ты советский человек? Кулак ты, хапуга, ханжа и кляузник!
Старовера как ветром сдуло. Вспоминая потом, как тот кинулся к двери, с какой молодой прытью, Максим смеялся. Но тогда было не до смеха.
Председатель исполкома Кислюк до горсовета был секретарем сельского райкома и, должно быть, оттуда принес непривычный для такого учреждения стиль работы. Председателю не сиделось в кабинете. Даже своих непосредственных подчиненных он редко вызывал в кабинет, чаще шел к ним в отделы. Между прочим, некоторые считали, что это разумная хитрость: председательские посещения дисциплинировали людей. Теперь никто в рабочее время не играл в шашки, потому что Кислюк мог нагрянуть в любую, самую неожиданную минуту.
Так что Максим не удивился, когда увидел председателя на пороге своей комнаты. Не удивился, но совсем не обрадовался: никакими делами заниматься не хотелось, с Кислюком особенно. Председатель был молодой, энергичный работник, но Максиму казалось парадоксальным, что, не в пример Игнатовичу, инженеру-механику, Кислюк, который долго работал по культуре и пропаганде, был равнодушен к архитектурной эстетике. Чистейший функционалист. Для него, пожалуй, все равно, что парадный фасад Дворца культуры, что глухая, без окон, стена холодильника. Правда, одно хорошо, что сам он знает свое слабое место, признает это и никогда не навязывает другим собственный вкус и понимание архитектуры. Целиком полагается на главного архитектора и... на секретаря горкома.
— Максим Евтихиевич, что вы такое сказали этому бородачу? Он чуть не сбил с ног Зину, когда та пыталась не пустить его ко мне. Влетел, как с цепи сорвавшись, призывал на вашу голову и гнев божий, и гнев ЦК, Совета Министров... всех высших органов.
Максим рассказал вяло, нехотя, равнодушный к самому факту и ко всему тому, что из него может проистечь. Но Кислюка рассказ его рассмешил, Максим ни разу еще не видел, чтоб председатель так заливисто, по-детски, до слез смеялся.
— Нет, серьезно, так и сказали?
— Так и сказал.
— Ох, не могу. Его дух и дух святой не уживаются вместе? Ну, насмешили...
— Павел Павлович, издевается он, старый ханжа, над нами. Это не смешно, а грустно. Мы иной раз невнимательно выслушиваем прекрасных людей, отказываем им в помощи и нянчимся с такими вот наглецами.
Кислюк вытер пальцами слезы.
— Да, смешного мало. Теперь хлынет новый поток кляуз. Самое противное — отвечать на жалобы бездоказательные, клеветнические. Знаешь, что кляуза, что ответить на нее стоило бы, как вы ответили староверу этому. А нельзя.
— На очередную кляузу Маслобоева поручите ответить мне.
— Чтоб потом приехало семь комиссий? Нет, дорогой Максим Евтихиевич, нам суждено оставаться бюрократами. Так проще откреститься и от бога, и от черта,
Максим внимательно посмотрел на председателя и серьезно, даже сурово сказал:
— А может, попробуем остаться людьми? Просто человеками?
Кислюка, знавшего, что обычно Карнач подхватывает любую шутку и катит ее, как снежный ком, удивила такая непривычная его серьезность. Он засмеялся, покачал головой.
— Однако настроение у вас сегодня... Даже боязно начинать разговор о деле.
Максим насторожился.
— Что там еще? Давайте. Сразу всех жаб. Проглочу. Я не брезглив, всеядный.
— Однако. Кто вам сегодня наступил на мозоль?
— Забудьте о моих мозолях. Я ваш подчиненный.
— Вы меня обижаете, Максим Евтихиевич. Ей-богу, я еще не настолько обюрократился, чтоб так разговаривать с вами. Я глубоко уважаю ваш авторитет...
Максим ненавидел раздражительность в других и в себе тоже. Обычно он умел не показывать ее на людях. Странно, но перед Кислюком ему не захотелось скрывать свое настроение, притворяться бодрячком. В то же время он понимал неуместность такого тона в разговоре с человеком, безусловно, доброжелательным.
Мягкой улыбкой попросил прощения. Но все же не сдержался:
— Теперь в любви ко мне клянется только один человек — Макоед.
Кислюк знал об их отношениях и, обиженный таким сравнением, тяжело вздохнул. Остальное до него не могло дойти. А между тем, если б не встреча с Макоедом, не беседа с Игнатовичем, весь их разговор, наверно, имел бы совсем другую окраску, другой характер. А еще была в его словах горькая ирония.
Но председатель не знал ни о его отношениях с женой, ни о разговоре у Игнатовича и потому счел, что, пожалуй, всего уместнее, деликатнее промолчать и перейти к делу.
— Звонил Игнатович. Требует, чтобы мы «посадили» на проспекте, напротив Лесной, общежитие института.
Максим втянул в легкие воздух и задержал дыхание. Кислюк умолк, ждал, что архитектор сейчас гневно запротестует. Но тот так же шумно выдохнул воздух и ничего не ответил.
Председатель откровенно признался:
— Ничего не понимаю. Даже мне, грешному функционалисту, как вы меня окрестили, абсолютно ясно, что на это место просится что-то монументальное, а не ординарная коробка. В будущем это второй центр. Игнатович меня удивил. Такое внимание к архитектурному облику города и вдруг... Поговорили бы вы с ним.
— А вы? Вы говорили?
— Попытался. Ответ короткий: «Нет вопроса!» Для него нет вопроса. А для нас вопрос есть. Вы могли бы более профессионально доказать. Да вам и проще при ваших отношениях...
— Родственных, да? — криво улыбнулся Максим и сердито выпалил: — К вашему сведению, Павел Павлович, я никогда не решаю архитектурные проблемы по-родственному.
Кислюк смутился.
— Вы меня неправильно поняли. Прежде всего я имею в виду вашу компетентность. Игнатович считается с вашим мнением.
— Павел Павлович, к Игнатовичу не пойду говорить на эту тему. Но постановления не подпишу.
— Что же делать?
— Обойти главного архитектора — это так просто. Не впервые.
Кислюк, который только вначале на минутку присел, а потом расхаживал вокруг стола, вдруг направился к двери. Но посреди комнаты остановился и издалека, уже совсем по-начальнически, иронично, с сознанием своей власти посмотрел на Карнача.
— Однако колючий вы сегодня. Не дотронуться. Не нравитесь вы мне.
— Спасибо за откровенность. Между прочим, я никогда не старался нравиться начальству. Принимайте таким, каков есть. Да, кстати, с сегодняшнего дня обязанности ваши усложняются. Теперь Игнатовича убеждать придется вам. Какие проблемы он еще подкинул?
Кислюк вернулся к столу.
— Это уже мелочь. Есть указание: дом на Ветряной, который занимают сейчас геологи, надстроить и передать под исполком сельского района.
— Что значит надстроить?
— К двум этажам еще два.
Максим почувствовал, как кровь ударила в виски, словно эта обыденная история с малоприметным домом вдруг задела его собственную судьбу. Да, задела, потому что в воображении его уже давно живет архитектурный образ этого живописного уголка над рекой — такой, каким он будет после реконструкции. Это один из тех образов, что возникают в бессонные ночи. Один из тех проектов, что рождаются сами по себе, без заказа и которые дают смысл жизни зодчего. Может быть, замысел никогда не осуществится, но, пока он есть, пока живут желание и мечта, есть радость творчества: даешь простор фантазии и мысленно планируешь, строишь что-то новое. В городе это единственный уголок, где во время войны уцелели старые, XVII—XVIII веков здания. Суметь сохранить все старое, имеющее историческую и архитектурную ценность, и сочетать его с новым — задача сложная, интересная, какой ему еще не приходилось решать. Двадцать лет он строил только новое, убирая остатки старого, разрушенного войной. Так было в Минске, так было и здесь, в этом городе.
Максим стремительно вышел из-за стола, сердито рванул занавеску на стене, зазвенели кольца на проволоке, открылся генеральный план реконструкции города. Он ткнул пальцем в план.
— Десятки людей ломали головы, не спали, спорили, чтоб разработать его. И вдруг кто-то, почесав левой рукой правое ухо, одним махом все перечеркивает.
— Ну, так уж и перечеркивает. Одним домом весь план? — снисходительно улыбнулся Кислюк.
Безразличие Максима как рукой сняло. Вмиг вернулось его обычное, знакомое всем состояние — энергия, полемический огонь.
— Черт возьми! Не план. Лучший район. Зачеркивает возможности реконструкции целого района. Эту старую казарму давно надо снести. Не позволяла наша бедность. В таком виде через год-два мы ее уберем. А кто позволит сносить, если мы ухлопаем полмиллиона и надстроим еще два этажа? Пришьем новый рукав к старой свитке. И будет стоять уродина, как бельмо в глазу. Закроет перспективу на реку. Ни один гений не найдет тогда композиционного решения района, Павел Павлович. Что перед таким домом можно посадить? Филармонию, как мы планировали? Смешно! А теперь взгляните с другой стороны. Все мы говорим о транспортной проблеме, которая уже возникла. А что будет через пять, десять лет? В этом конце уже два крупных учреждения, возле которых собирается сотня машин. Сажаем третье, к которому пойдут колхозные грузовики. Потом, допустим, посадим филармонию. Приближается время, когда люди станут ездить на концерты на собственных машинах. Где их ставить? Снос этого «чирья», кроме того, что открывает перспективу, дает площадку для машин. Неужели это трудно понять? Кто дал такое «мудрое» указание? Игнатович?
— Сосновский.
— Сосновский? Ну, Сосновскому я докажу! Не может он не согласиться! Не в пятидесятые годы мы живем, чтоб все латать прорехи.
— Вот таким вы мне нравитесь, — улыбнулся Кислюк.
— Мне нужны не ваши комплименты, а ваша поддержка! Что вы ответили на это требование? Есть? Будет сделано? Так?
Кислюк нахмурился.
— Вот вы как думаете обо мне?
— А как мне думать?
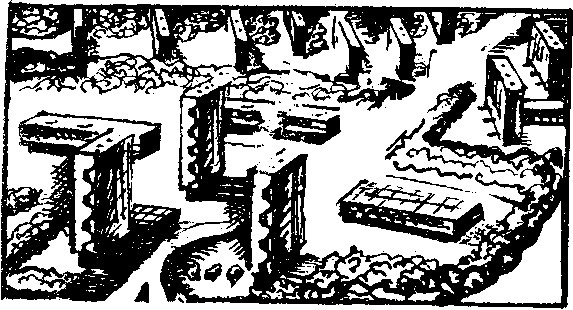

— Если б я сказал: «Будет сделано!» — то не пришел бы к вам и, между прочим, легко сумел бы вас обойти.
Сказал и вышел из комнаты, не попрощавшись. Обиделся. Но Максима это мало тронуло. Во-первых, знал, что Кислюк не злопамятен. А во-вторых, упрек в нерешительности, несомненно, подбавит ему пыла в борьбе за проекты, с которыми он согласен.
У Максима появилось ощущение, что он одержал победу, пускай небольшую и пока что неизвестно над кем. Может быть, просто над обстоятельствами. Суть не в этом. Главное — это изменило настроение, вернуло к активной деятельности.
Он остановился перед планом города. Знал его наизусть. Но все равно любил вот так постоять и посмотреть. Тут всего ярче возникал образ будущего города во всей полноте планировочных композиций. Словно видишь свой город с высоты. Через несколько минут спустишься сюда, в новый аэропорт. И тебе надо решить, куда ты поедешь, что тебе захочется посмотреть после недолгой разлуки. Проспект Мира? Аллею Героев? Новый парк? Заречный район? У Витьки Шугачева замечательная идея этого района. Детали уже ложатся на листы ватмана. Виктор работает, веря, что он, главный, добьется ассигнований на экспериментальную застройку. Потому Виктора так испугал его самоотвод. Шугачев никогда не копирует чужое, не гонится за модой, он бывает традиционен, однако решения у него всегда оригинальные — в русле лучших традиций отечественной архитектуры,
Странно, Виктор так редко говорит о своей работе. А вот дети пошли за ним, двое уже выбрали отцовскую профессию. Он же столько беседовал с Ветой об архитектуре. А она выбрала музыку... Если б сама выбрала! Он до сих пор не верит, что из нее выйдет настоящая пианистка.
Подумал о детях, и тут же возникло острое ощущение вины за то, что он упустил что-то очень важное, что должен был сделать. Не сразу сообразил, что, перед кем он виноват. Перед Ветой? Нет. Перед Верой Шугачевой. За три дня он не удосужился поговорить с этим каштановым красавчиком. К черту все дела! Все высокие материи! Надо спасать юное девичье сердце, отвести от него беду!
Нина Ивановна испугалась, увидев Карнача на пороге своей комнаты в институте. Только что так по-дурацки позвонил этот чурбан, ее муж, и Карнач уже здесь. А лекций, она знала, у него нет, он прочитал свой курс за два месяца, чтоб не отрываться надолго от основной работы, ректорат шел ему навстречу, только бы читал. Неужели все решено? А что, если он скажет: «Ну вот, я пришел тебя заменить. Ты жаловалась, что тебе трудно вести кафедру?» Нина Ивановна похолодела от этой мысли.
А Карнач — воплощение вежливости, галантности, оптимизма. Как это подозрительно! Подошел в пальто, бросив меховую шапку на стол, поздоровался, задержал ее руку, любуясь.
— Ну как тут удержаться, чтоб не поцеловать такую руку?
Лаборантка кафедры Роза — верная слуга Нины Ивановны, ее глаза и уши — залилась радостным смехом. Поздоровавшись с ней (больше в комнате никого не было), Максим продолжал:
— Нина Ивановна, ты картошку когда-нибудь чистишь? Это ж надо уметь так холить руки, — он оглядел статную фигуру моложавой женщины в новеньком, с иголочки, простом, но со вкусом сшитом костюме. Мало в городе женщин, которые умеют так одеваться — просто и красиво. Дашу тянет на крикливую сверхмоду.
— А муж у меня зачем? — без улыбки ответила Нина Ивановна на его вопрос о картошке, все еще настороженная и испуганная.
— Бедный Макоед? Да и все мы, мужчины. Возвращается матриархат.
— По-моему, это вам хочется вернуть матриархат, чтоб еще больше работы взвалить на наши слабые плечи.
Нине Ивановне не терпелось поскорей перейти от галантной болтовни к более серьезному разговору, который, может быть, прояснил бы ее положение.
— Какие новости в архитектуре, Максим?
— Нина Ивановна, богиня моя, все новости должны быть у вас, теоретиков. А нам, практикам, некогда полистать журнал. Сегодня один бородатый тип потребовал, чтоб я пошел показал, где ему поставить уборную, простите.
Роза, недавно приобщившаяся к архитектуре, любила разговоры на специальные темы и слушала, разинув рот, но уборная ее опять рассмешила.
— А высокому функционалисту пришла идея надстроить николаевскую казарму на Ветряной. Можешь представить, какой шедевр мы возвели бы.
У Нины Ивановны немного отлегло от сердца: нет, кажется, он по-прежнему занят своей работой.
— Твой гениальный Макоед тоже не нашел другого места, как площадка напротив Лесной, чтоб посадить общежитие института. Еще один шедевр!
Нина Ивановна засмеялась, почти уже успокоенная; сарказм по отношению к мужу ее не задел.
Но тут же неожиданно Максим нанес чуть ли не смертельный удар.
— Надоела мне до чертиков эта нервотрепка. Завидую вам. Чистая наука. Безгрешные юные души.
— Так переходите к нам! — весело предложила Роза. — Вас с распростертыми объятиями примут.
Не ведало наивное существо, что в один миг превратилось из лучшего друга и слуги во врага своей покровительницы. Но Нина Ивановна не испепелила ее взглядом: боялась взглянуть, чтоб не выдать себя.
— Открой лучше, Максим, нам, бабам, секрет своей молодости. Гляжу на тебя и дивлюсь: при такой цыганской черноте ни одного седого волоса.
— Не сплю на чужих подушках.
Роза сползла под стол.
— Не думаю, что мой Макоед спит, — без улыбки ответила Нина Ивановна.
— Макоеду ты часто мылишь голову, вот и полысел.
Нина Ивановна засмеялась, хотя на сердце было пусто и холодно.
Роза кудахтала от смеха.
Заведующая кафедрой упрекнула лаборантку.
— Роза, вы — что малое дитя.
Та вмиг умолкла, испугалась: почему вдруг на «вы»?
Резко зазвенел электрический звонок. Над головой и где-то далеко в коридоре затопали, загрохотали, даже стакан звякнул о графин. Максим поморщился: легкие железобетонные конструкции непригодны для зданий, где собирается столько людей, все дрожит, над головой грохот, будто танки идут. В старом корпусе Минского политехнического, где он учился, ничего подобного не было.
Вадима Кулагина он нашел, когда окончился перерыв и студенты собрались в аудитории. Тот неохотно принял приглашение выйти поговорить — не хочет пропускать лекцию.
Максим, глубоко скрыв сарказм, сказал совершенно серьезно:
— Приятно видеть студента, который не пропускает ни одной лекции.
Попал в цель — друзья Вадима весело засмеялись.
Юноша был уверен, что его ведут в деканат, поэтому держал себя несколько нахально. Удивился, когда Максим предложил выйти на улицу. Удивился и... испугался. Максим простил ему нахальство, в его возрасте многие ведут себя так, это глупая мальчишеская форма утверждения своего «я», своей независимости. Сам он, правда, таким не был, потому что до института армия и война уже воспитали в нем чувство собственного достоинства. Но ни на войне, когда каждый день смотрели смерти в глаза, ни теперь, в мирной жизни, Максим никому не прощал трусости. Поэтому, увидев, что Кулагин испугался, сразу настроился против него.
Вадим не хотел одеваться, должно быть, нарочно, чтоб разговор не затянулся.
— Я закаленный.
— А я не закаленный, — с ударением сказал Максим. — Поэтому хочу разговаривать на равных. Я в пальто, в меховой шапке. А ты рядом будешь, как сирота, обращать на себя внимание прохожих. Что они подумают обо мне?
Вадим оделся.
Пошли проспектом по направлению к полю. Оно недалеко, новый институт строился на окраине. После его постройки проспект протянулся дальше: посадили молочный комбинат, рядом жилые дома. Многие в городе гордятся этим районом. Но не главный архитектор. Максим считает эту застройку своим самым большим поражением: слишком уж «по-новому», шаблонно, по-сверхтиповому. Чистейший функционализм. Такие районы есть в каждом городе. Единственное их достоинство, что новые. А что будет, когда они постареют?
Он спросил у студента, как ему нравятся планировка района и его архитектурный облик. Вадим ответил:
— Мне нравится. Современно.
Вот так, коротко и ясно: современно. Формула всеобъемлющая. Попробуй спорить.
Поэтому, оставив архитектуру в покое, Максим безо всяких подходов спросил о главном:
— Ты любишь Веру?
Вадим не удивился, как будто ждал этого вопроса.
— Это имеет отношение к архитектуре?
— Это имеет отношение к судьбе будущего архитектора. Между прочим, есть нерушимый закон, он не записан в моральном кодексе, но вытекает из него: прежде чем стать хорошим специалистом в любой области, надо стать человеком. Просто человеком.
Но тут же обожгла мысль: «Завтра он узнает, что я развожусь с женой, и можно представить, как истолкует мои слова».
Вадим помолчал минутку и ответил как будто даже застенчиво:
— Мы дружим.
— Знаешь, что от вашей дружбы будет ребенок?
Юноша остановился, глотнул морозный воздух, по лбу из-под шапки красивых каштановых волос поползла бледность, но не дошла до щек, они не побледнели, по-прежнему светились здоровым румянцем.
— Откуда вы... знаете?
— Я друг семьи.
Он съежился, и бледность перешла на щеки.
— И родители знают?
— Пока нет.
— Откуда же вы?..
— Мне сказала Вера.
Губы его скривились в подленькой ухмылочке, и бледность поползла обратно, вверх,
— Почему такое доверие?
Максиму стало гадко. Если б речь шла о судьбе его собственной дочери, то на этом он бы, верно, прекратил разговор с «женихом». Но Веру такая развязка мало порадует. Этой бедной влюбленной девочке надо помочь выйти из ее тяжелого положения с наименьшей душевной травмой. Да и всем Шугачевым — Поле, Виктору... Наконец, надо исходить из того, что нет людей безнадежных, тем более не безнадежен этот парень, в хороших руках — а у Шугачевых руки хорошие — он еще может стать человеком.
— Почему такое доверие, тебе, видно, трудно понять. Но ты мог бы знать из ее рассказов, что я нес ее из роддома. Нянчил, когда ей было год, два, три... Существовала когда-то такая категория — крестный отец. Часто он бывал духовным отцом. Ему, особенно если он близкий друг семьи, дети доверяли больше, чем родителям. У тебя не было такого человека?
Вадим молчал.
— Представляешь ее душевное состояние, если она отважилась признаться мне в своей беде? Хотя, по логике, для женщины это должно быть радостью, счастьем...
— Что? — должно быть, Вадим задумался и не уловил смысла его слов.
— То, что она будет матерью.
— Ну, не очень-то этому радуются в наше время.
У Максима зачесались руки, но он спрятал их в карманы пальто.
Студент достал сигареты, щелкнул красивой зажигалкой. Дым потянуло на Максима, и ему тоже захотелось курить. Но своих сигарет не было — нарочно не носил, чтоб не поддаться искушению. Бестактность студента — закуривает, не спросив разрешения, — оправдал: должно быть, волнуется, а если волнуется, значит, не законченный циник.
Максим смягчился.
— Думаю, ты знаешь, что в таких случаях делает мужчина?
— Что делает? — наивно спросил студент и закашлялся, поперхнувшись табачным дымом.
— Неужто не знаешь? — с иронией повторил Максим. — Я имею в виду настоящего мужчину. У которого есть совесть. Честь. Надеюсь, что ты именно такой.
Вадим не сразу ответил.
Максим дал ему подумать, не торопил.
— У меня есть отец и мать, я их уважаю. Я ничего не решал без их согласия. А они против моей женитьбы.
— Твое уважительное отношение к родителям хвалю. Ты говорил с ними?
— Отец сказал: женишься — живи как хочешь. А как я проживу, пока учусь?
Максим отметил, что Вадим не отвечает на его вопрос, говорил ли он с родителями о Вере. Он ссылается на слова отца, которые могли быть сказаны год и два назад за вечерним чаем, обычные слова, которые говорят отцы по конкретному поводу или просто так, желая продемонстрировать «житейскую мудрость».
Если бы Максим поверил в искренность Вадима, то пообещал бы и ему, как Вере: «Я поговорю с твоими родителями». Так и думал, когда ехал в институт. Но во время разговора убедился, что дело не в родителях или, во всяком случае, не только в них. Перед ним был молодой рационалист, который научился разделять свои чувства на выгодные для него и невыгодные. Красивыми словами, эмоциональными призывами его не убедишь.
— Как же живут другие?
— Немногие студенты женятся. А кто женат, так и живут.
— А ты приучен к сладкой жизни?
— Я живу в общежитии, как все.
Осмелел и отбивает удары ловко.
— Что же ты советуешь Вере? Что ей делать?
Студент раздраженно бросил окурок на лед в канаву. Асфальтированный тротуар кончился, они остановились, словно перед препятствием. Вадим первый повернул назад, как бы подчеркивая, что ему разговор надоел, что пора кончать его. Посмотрел на Максима нахально, дерзко и, показалось, насмешливо. Победителем посмотрел.
— С Верой мы сами договоримся. Без вас. Вот как заговорил!
Максима передернуло, но он понимал, что в такой ситуации, с таким человеком спокойствие — самое сильное оружие.
— Это разумно — договориться вам самим. Но знай, Шугачевы не та семья и Вера не та девушка, Чтоб это можно было решить так, как, я чувствую, тебе хочется. Нет, дорогой мой молодой коллега! За все надо отвечать. За все наши архитектурные и житейские промашки. Однако в данном случае высокая ответственность может дать тебе счастье на всю жизнь.
Он посмотрел на Вадима: если тот скептически улыбнется на его слова, надо будет повернуть разговор иначе, тогда уж пусть не ждет деликатности и пощады. Нет, студент был задумчив и серьезен. Значит, не сомневается в том, что Вера — девушка, с которой можно построить счастье.
— Я поговорю с родителями.
Ах, свинтус! Все-таки признался, что о Вере ты с ними не говорил, а морочил голову девушке.
— Хочешь, я тебе помогу?
Вадим опять испугался.
— Нет, нет. Нет. Не надо. Я сам...
Максим отбросил дипломатию.
— Слушай, парень! Ты передо мной не крути... Я тебя вижу насквозь. И ты меня знаешь. Должен знать не только как преподавателя... Имей в виду... Верина судьба меня волнует так же, как судьба собственной дочери. Тебе понятно?
Вадим, как школьник, кивнул головой.
— Ну вот. Будем считать, что договорились. А теперь иди и хорошенько подумай. Не поспи ночь-другую... Подумай, как над самым ответственным проектом. А это проект серьезный, уверяю тебя. Будь здоров.
Студент постоял перед ним в нерешительности, опять с белой полосой на лбу, то ли собираясь что-то ответить, то ли не зная, как попрощаться. Потом быстро, почти по-военному повернулся и направился к институту чуть не бегом. Шагов через тридцать оглянулся, как будто хотел убедиться, что за ним не гонятся.
Максим стоял и смотрел ему вслед.
В воздухе кружились робкие снежинки.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления