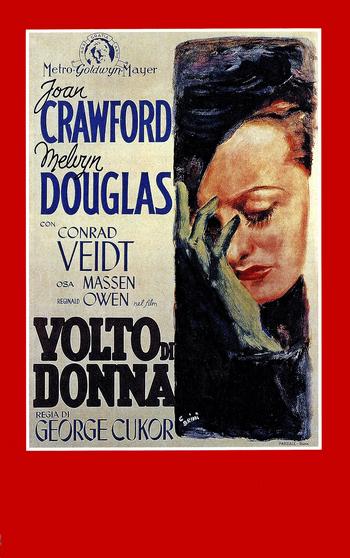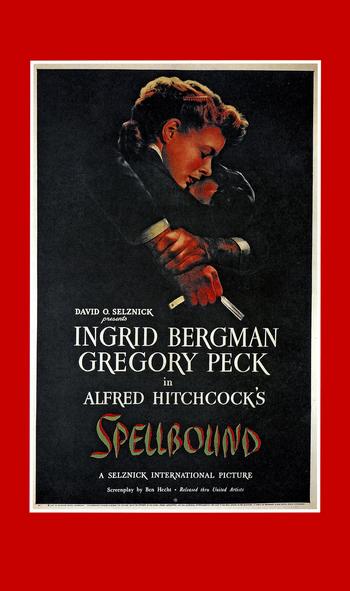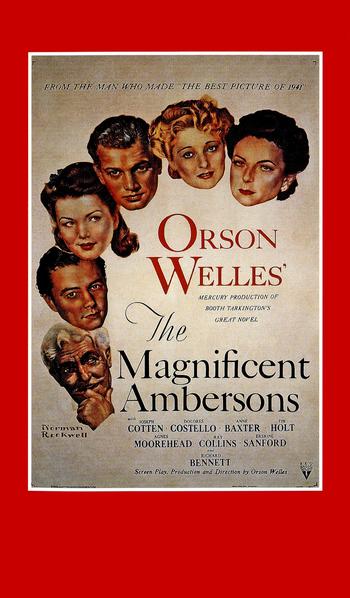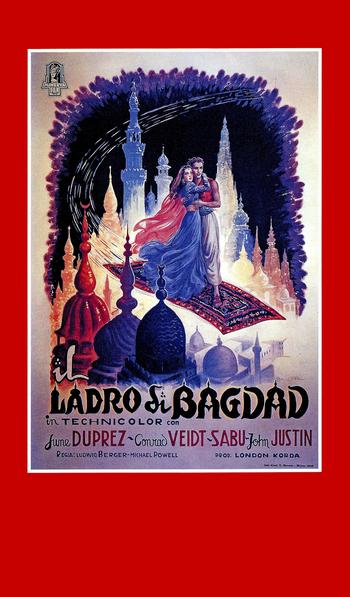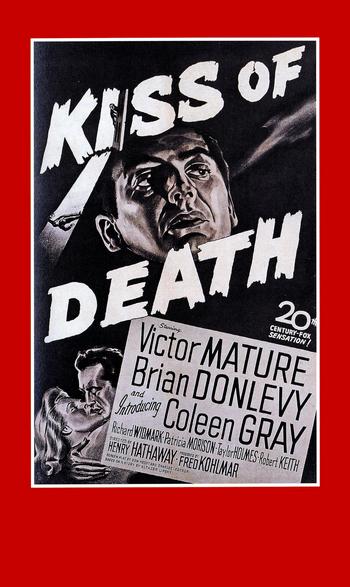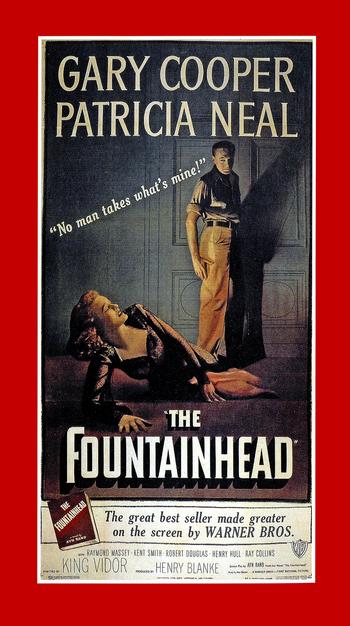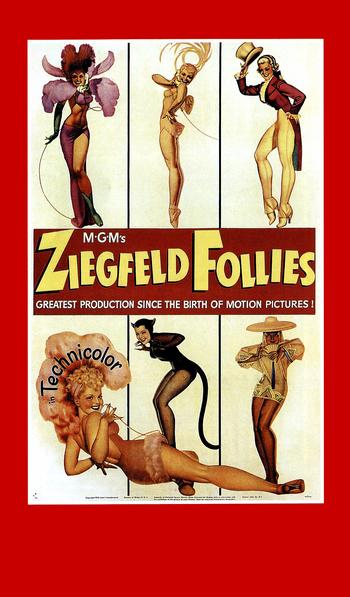Онлайн чтение книги
Охотники за удачей
The Carpetbaggers
КНИГА ДЕВЯТАЯ. ДЖОНАС. 1945
1
Солнце нещадно палило взлетную полосу, но в кабинете генерала кондиционер удерживал нормальную температуру. Я посмотрел на Морриси, потом — на генерала и его помощников, сидевших напротив.
— Так вот, джентльмены, — сказал я. — Наш самолет достигает высоты легче и быстрее, чем британский «Де-Хэвиленд», которыми они так хвастаются. — Я улыбнулся и встал. — Предлагаю всем выйти наружу, и я продемонстрирую это.
— Мы в этом не сомневаемся, мистер Корд, — сразу же сказал генерал. — Если бы у нас были какие-то сомнения, вы бы не получили контракт.
— Чего же мы ждем? Пойдемте.
— Минутку, мистер Корд, — торопливо сказал генерал. — Мы не можем позволить вам демонстрировать самолет.
Я изумленно уставился на него:
— Почему?
— У вас нет допуска на полеты на реактивных самолетах, — ответил он, глядя в бумагу, лежавшую перед ним на столе. — По результатам медицинского осмотра у вас немного замедлены рефлексы. В пределах нормы, конечно, учитывая ваш возраст, но вы понимаете, почему мы не можем позволить вам лететь.
— А кто, черт возьми, пригнал машину сюда?
— У вас были на это все права — в тот момент, — ответил генерал. — Самолет был ваш. Но, приземлившись здесь, он, согласно контракту, стал собственностью армии. И мы не можем разрешить вам взлет.
Я раздраженно стукнул кулаком по ладони. Правила, сплошные правила. Проклятые контракты! Вчера я мог слетать на этом самолете хоть на Аляску и обратно, и никто мне не помешал бы. И никто меня не догнал бы, потому что скорость у меня была на двести с лишним миль в час больше, чем у обычных самолетов, стоявших на вооружении.
Генерал улыбнулся и подошел ко мне.
— Я вас понимаю, мистер Корд, — сказал он. — Когда медики сказали мне, что я слишком стар для боевых полетов, я был не старше, чем вы сейчас. И мне это тоже не понравилось. Кому нравится слышать, что он стареет?
О чем это он? Мне всего сорок один. При чем тут старость? Я взглянул на генерала, и он снова улыбнулся, прочитав удивление в моих глазах.
— Это было всего год назад. Мне сейчас сорок три, — он предложил мне сигарету, и я молча взял ее. — За штурвал сядет подполковник Шоу. Он уже ждет нас на поле.
Генерал снова заметил вопрос в моем взгляде.
— Не беспокойтесь, Шоу хорошо знаком с самолетом. Последние три недели он провел на вашем заводе.
Я перевел взгляд на Морриси, но тот старательно смотрел в сторону. Значит, он тоже был в курсе. Ну, он мне за это заплатит!
— О’кей, генерал, — сказал я. — Пойдемте смотреть, как летает этот малыш.
Слово «малыш» оказалось уместным, и не только применительно к самолету. Подполковнику Шоу было не больше двадцати. Я не мог стоять и смотреть, как он испытывает самолет. Я чувствовал себя так, словно из моей постели в последний момент увели девственницу.
— Здесь можно получить чашечку кофе?
— Возле главных ворот есть буфет, — ответил один из солдат.
— Спасибо.
— Не за что, — автоматически сказал он, продолжая смотреть в небо.
«Слишком молод или слишком стар», — думал я, сидя за столиком в полутемном буфете. Вот так всегда. Мне было четырнадцать, когда кончилась Первая мировая война, а когда началась Вторая, я уже перевалил за возрастной ценз. Не везет мне. Мне всегда казалось, что каждому поколению суждено пережить войну, но оказалось, что я угодил как раз в промежуток между ними.
Подъехал небольшой армейский автобус, и я от нечего делать стал наблюдать за выходившими из него людьми. Все они были немолоды и в гражданском. Среди них были седые и лысые. Мне бросилась в глаза одна деталь. Никто из них не улыбался, даже переговариваясь с другими.
«А с чего им улыбаться? — горько подумал я. — Они — такие же ископаемые, как я».
— Герр Корд! Вот сюрприз! Что вы здесь делаете?
Рядом со мной стоял Штрассмер.
— Доставил сюда новый самолет, — ответил я, протягивая ему руку. — А вы? Я думал, вы в Нью-Йорке.
Он пожал мне руку и уже без улыбки сказал:
— Мы тоже доставили сюда кое-что и теперь возвращаемся обратно.
— Вы с той группой?
Он кивнул и, взглянув на них в окно, беспокойно посмотрел на меня.
— Да, — произнес он. — Мы прилетели на одном самолете, но обратно полетим отдельно. Три года мы работали вместе, и вот работа окончена. Скоро я вернусь в Калифорнию.
— Надеюсь, — я рассмеялся. — Вы нам очень пригодились бы на заводе.
Он промолчал. Я внимательно посмотрел на него и вспомнил, что европейцы щекотливы в отношении манер.
— Прошу прощения, мистер Штрассмер, — сказал я. — Не выпьете ли со мной кофе?
— У меня нет времени. — В его взгляде появилась странная нерешительность. — У вас, очевидно, здесь есть офис, как и во многих других местах?
— Разумеется, — ответил я, вспомнив, что видел по пути мужской туалет. — Он позади этого здания.
— Я встречусь с вами там через пять минут, — сказал он и поспешно вышел.
Я видел в окно, как он присоединился к одной из групп и заговорил с кем-то. «Тронулся старик, что ли?» — подумал я. Может, перетрудился и вообразил, что он снова находится в нацистской Германии? А иначе почему он боится открыто говорить со мной?
Я неспешно вышел из буфета. Когда я проходил мимо стоявших на обочине, Штрассмер даже не взглянул в мою сторону. В туалет он зашел следом за мной и нервно огляделся:
— Мы одни?
— Думаю, да, — ответил я, вглядываясь в него и соображая, найдется ли здесь врач, если он и правда спятил.
Проверив все кабинки и никого там не обнаружив, он повернулся ко мне. Его лицо было бледным и напряженным, а на лбу выступили капли пота. Мне показалось, что я узнаю симптомы. Невадское солнце доконает любого непривычного к нему. Его первые слова подтвердили мою догадку.
— Герр Корд! — хрипло прошептал он. — Война кончится не через шесть месяцев!
— Конечно, нет, — с готовностью согласился я. Я слышал, что главное — это соглашаться с ними, чтобы успокоить. Жаль, что я не помню, что еще надо при этом делать. — Давайте я налью вам…
— Она кончится в следующем месяце!
Наверное, мои мысли ясно читались у меня на лице, потому что Штрассмер поспешно добавил:
— Нет, я не сошел с ума, герр Корд. Я никому не сказал бы этого, кроме вас. Только так я могу отблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь. Я знаю, как это важно для вашего бизнеса.
— Но… но как…
— Больше я ничего не могу сказать, — перебил он меня. — Просто поверьте мне. Уже через месяц Япония падет!
Он развернулся и почти выбежал за дверь.
Секунду я смотрел ему вслед, а потом подошел к раковине и ополоснул лицо холодной водой. Я почувствовал себя еще более сумасшедшим, чем он, потому что готов был верить ему. Но почему? Это казалось бессмыслицей. Да, мы начали оттеснять япошек, но они все еще удерживали Малайю и Гонконг, и если учесть их философию камикадзе, окончание войны в течение месяца было бы просто чудом.
Я продолжал размышлять об этом, когда мы с Морриси сели в поезд.
— Знаешь, кого я там встретил? — спросил я. — Отто Штрассмера.
Он облегченно улыбнулся: наверное, ожидал выволочки за то, что не сказал мне о летчике-испытателе.
— Он славный тип, — сказал он. — Как у него дела?
— Вроде нормально, — ответил я. — Возвращается в Нью-Йорк. Кстати, ты не слышал, над чем он работал?
— Кое-что. Один знакомый рассказывал — он некоторое время работал с ними. Он знал только то, что это называлось «Манхэттенский проект» и как-то связано с Эйнштейном.
Я озадаченно нахмурился.
— Чем Штрассмер может быть полезен Эйнштейну?
Морриси снова улыбнулся.
— Но ведь это Штрассмер изобрел пластиковую бутылку для пива, которая оказалась прочнее металлической.
— Ну и что?
— Может, профессору понадобилась пластиковая емкость, чтобы держать там свои атомы, — засмеялся Морриси.
Меня словно током ударило. Контейнер для атомов, энергия, помещенная в бутылку! Стоит открыть пробку — и он взорвется. Старик был в своем уме и знал, о чем говорил. Это я был не в своем уме.
Штрассмер и его друзья приехали в пустыню, сделали такую штуку и теперь едут по домам. Что это была за штука и как они ее сделали, я не знал и знать не хотел. Главное, что это случилось.
Было создано чудо, которое покончит с войной.
2
Я сошел с поезда в Рено, а Морриси отправился дальше, в Лос-Анджелес. Вызывать Робера с лимузином не было времени, и я доехал до завода на такси. За время войны он заметно вырос. Я вышел из машины, расплатился с шофером и взглянул на знакомое старое здание. Оно казалось обшарпанным и старомодным по сравнению с новыми строениями. Почему-то я так и не заставил себя из него переехать. Я бросил сигарету в пыль и, затоптав окурок, вошел в здание.
Запах остался тем же, как и шепот, срывавшийся с губ рабочих, когда я проходил мимо. «Эль ихо», «сын». Прошло уже двадцать лет, большинство из них не работали здесь, когда умер мой отец, и все-таки они называли меня так. Даже те, кто был в два раза моложе меня.
В офисе все тоже было прежним. Массивный стол и обитые кожей кресла, слегка потрескавшиеся от времени. Секретаря на месте не оказалось. Я не удивился: меня не ждали.
Я сел за стол и нажал кнопку, которая соединила меня с Макалистером, сидевшим в новом здании. Из селектора раздался его удивленный голос:
— Джонас? Откуда ты взялся?
— С военно-воздушной базы, — ответил я. — Мы только что доставили туда новый самолет.
— Хорошо. Им довольны?
— Наверное, — сказал я, — но мне не доверили на нем летать. — Я нагнулся и достал бутылку бурбона, поставив ее перед собой на стол. — Как обстоит дело с контрактами, которые будут расторгнуты из-за того, что война кончится завтра?
— Ты имеешь в виду контракты на взрывчатые вещества?
— Я имею в виду все компании, — сказал я, помня о том, что он хранил копии всех контрактов, которые мы когда-либо заключали.
— Это сразу не выяснить. Я поручу кому-нибудь заняться этим вопросом.
— В час уложишься?
Он секунду колебался, а потом в его голосе зазвучали странные нотки.
— Ладно, если это так важно.
— Да, важно.
— Ты что-то узнал?
— Нет, — честно признался я. В самом деле, я ничего не знал наверняка. Это была только догадка. — Я просто хочу знать.
Закончив разговор, я плеснул бурбона в стакан и, взглянув на портрет отца, приветственно поднял его и осушил одним глотком.
* * *
— Ты не очень-то гостеприимен, — сказал Мак, глядя на бутылку бурбона на столе. — Как насчет выпить?
Я удивленно взглянул на него. Он никогда не был любителем выпить. Тем более в рабочее время. Я подвинул к нему бутылку и стакан.
— Угощайся.
Он налил немного и выпил, а потом откашлялся. Я выжидающе смотрел на него.
— Есть один послевоенный план, который я хотел с тобой обсудить, — сказал он смущенно.
— Говори.
— Я о себе, — неуверенно сказал он. — Видишь ли, я уже немолод. Хочу уйти на покой.
— На покой? — я не поверил своим ушам. — Какого черта? Чем ты будешь заниматься?
Мак смущенно покраснел.
— Я всю жизнь много работал, — сказал он. — У меня два сына, дочь и пять внуков, троих из которых я даже не видел. Мы с женой хотели бы побыть с ними, пока не поздно.
Я рассмеялся:
— Ты говоришь так, словно можешь вот-вот отдать концы. Ты же еще молод!
— Мне шестьдесят три. Я работаю с тобой уже двадцать лет.
Двадцать лет! Куда они ушли? Военные врачи были правы. Я тоже уже не мальчик.
— Нам будет тебя не хватать, — искренне сказал я. — Не знаю, как мы справимся.
Это была правда. Мак был единственным человеком, на которого я мог по-настоящему положиться.
— Справишься. Теперь у нас работает около сорока юристов, и каждый специализируется в своей области. Ты ведь больше не один человек, а большая компания. И тебе нужна целая юридическая машина.
— Ну и что? — возразил я. — Когда у тебя неприятности, машине не позвонишь посреди ночи.
— Этой машине — можно. Она рассчитана на все случаи жизни.
— Но чем ты будешь заниматься? Не может быть, чтобы тебя устроила роль счастливого деда! Чем ты займешь свои мозги, Мак?
— Я подумал об этом, — серьезно ответил он. — Я так долго занимался корпоративным правом и налогами, что забыл о самом главном. О законах, которые относятся к людям. — Он взял бутылку и налил себе еще. Ему нелегко сидеть здесь и рассказывать мне о том, что он думает. — Я хочу устроить контору в каком-нибудь маленьком городке и заниматься теми, кто ко мне обратится. Мне надоело мыслить миллионами. В кои-то веки мне хотелось бы помочь какому-нибудь несчастному сукину сыну, которому это действительно нужно.
Я смотрел на него. Работаешь с человеком двадцать лет, и все равно его не знаешь. Никогда не подозревал такого за Макалистером.
— Разумеется, все контракты и соглашения между нами будут аннулированы, — добавил он.
Я знал, что деньги ему не нужны. Так же как и мне.
— Какого черта? Просто появляйся раз в несколько месяцев на заседании совета директоров, чтобы я хоть мог с тобой видеться.
— Значит… значит ты согласен?
Я кивнул.
Конечно. Попробуем, когда война кончится.
* * *
Стопка бумаг росла по мере того, как Макалистер просматривал резюме контрактов. Наконец он закончил и взглянул на меня.
— Все контракты обеспечены пунктами, которые защищают нас, кроме одного.
— Которого?
— На акваплан для военно-морских сил в Сан-Диего.
Я знал, что он имеет в виду «Центурион». Он был задуман как самый большой в мире самолет, способный взять на борт помимо экипажа сто пятьдесят человек, два легких танка-амфибии, легкую артиллерию, боеприпасы и амуницию для целого батальона.
— Как это нас угораздило заключить такой контракт?
— Это ты решил, — ответил Мак. — Помнишь?
Я вспомнил. Военные сомневались, что такая громадина вообще сможет взлететь, так что я заставил их подписать этот контракт с условием, что до окончания войны мы представим им полностью испытанный самолет. Это было семь месяцев назад.
Проблемы возникли почти сразу. Стандартный металл делал корпус слишком тяжелым, так что двигатели не могли его поднять. Два месяца ушло на поиски нового материала — стекловолоконного соединения, которое оказалось в десять раз легче и в четыре раза прочнее. Затем понадобилось разработать технологию обработки нового материала. Мне даже пришлось отозвать Амоса Уинтропа из Канады, чтобы он занялся этим проектом. Старый плут великолепно поработал.
Впрочем, он не изменился. В тот момент он держал меня за жабры, и мне пришлось назначить его вице-президентом «Самолетов Корда».
— Сколько мы уже вложили? — спросил я.
Мак справился с бумагой.
— Шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре доллара и тридцать один цент.
— Мы влипли, — сказал я и взялся за телефон. — Дайте мне Амоса Уинтропа в Сан-Диего, а пока я буду ждать звонка, свяжитесь с мистером Далтоном и попросите его выделить для меня самолет.
— Что случилось?
— Если этот самолет не взлетит немедленно, семнадцать миллионов вылетят в трубу.
Меня соединили с Амосом.
— Когда ты собираешься поднять в воздух «Центурион»?
— Дела идут неплохо. Остались мелочи. Думаю, в сентябре или начале октября.
— Что осталось доработать?
— Обычная доводка. Монтаж, пригонка, шлифовка, герметизация и тому подобное. Ну, ты знаешь.
Я знал. Мелкая, но важная работа, времени на которую уходило больше, чем на все остальное. Впрочем, не настолько существенная, чтобы помешать самолету взлететь.
— Подготовь самолет, — сказал я. — Завтра я его испытаю.
— Ты с ума сошел! Мы даже не заливали топливо в баки.
— Так залейте!
— Но корпус не прошел испытаний на воде! — крикнул он. — Ты уверен, что он не пойдет на дно?
— Так испытайте. У вас есть двадцать четыре часа, чтобы проверить плавучесть. Я приеду сегодня вечером и помогу вам.
Это были мои деньги, и мне не хотелось их терять. За семнадцать миллионов долларов «Центурион» взлетит, даже если мне придется вручную поднять его из воды.
3
Робер отвез меня на ранчо, где я принял душ и переоделся, чтобы лететь в Сан-Диего. Я уже собрался выходить, когда зазвонил телефон.
— Это вас, мистер Джонас, — сказал Робер. — Мистер Макалистер.
Я взял трубку.
— Да, Мак?
— Извини, что беспокою тебя, Джонас, но вопрос важный.
— Выкладывай.
— Только что звонил Боннер с киностудии. В конце месяца он уходит от нас в «Парамаунт».
— Предложи ему деньги.
— Уже предлагал. Не хочет. Он твердо решил уйти.
— А что с его контрактом?
— Заканчивается в этом месяце, — сказал Мак. — Мы не можем держать его, раз он хочет уйти.
— Тогда черт с ним. Хочет уйти — пусть уходит.
— Тогда нам нужен руководитель студии.
Жаль, что Дэвид Вулф не вернется. Я мог на него положиться. К кино он относился так же, как я — к самолетам. Но он погиб.
— Я хочу сегодня улететь в Сан-Диего, — сказал я. — Дай мне подумать, и послезавтра мы вместе решим этот вопрос в твоем офисе в Лос-Анджелесе.
В данный момент меня больше интересовал «Центурион», который стоил почти столько же, сколько годовая продукция киностудии.
* * *
— Ты серьезно собрался поднять самолет завтра? — спросил Амос, наливая виски в бумажные стаканчики.
Я кивнул.
— Я не стал бы, — покачал он головой. — Если он плавает, это еще не значит, что он летает. Мы во многом не уверены. Даже если он взлетит, нет никаких гарантий, что он не развалится в воздухе.
— Это было бы неприятно, — сказал я. — Тем не менее я все равно полечу.
Амос пожал плечами.
— Ты босс. — Он протянул мне стаканчик. — За удачу.
* * *
На следующий день в два часа мы все еще были не готовы. Во втором двигателе образовалась утечка, и ее никак не удавалось локализовать. Я прилег вздремнуть в его офисе, но там оказалось слишком шумно. А потом зазвонил телефон, и я взял трубку.
— Папа?
Это была Моника.
— Нет, это Джонас. Я сейчас его позову.
— Спасибо.
Я положил трубку на стол и крикнул Амоса. Когда он подошел к телефону, я снова лежал на диванчике. Услышав голос Моники, Амос бросил на меня странный взгляд.
— Да, я немного занят, — сказал он в трубку, потом помолчал, слушая Монику. — Это чудесно, — заулыбался он. — Когда вы выезжаете? Я прилечу в Нью-Йорк, когда закончу здесь. Отметим это событие. Поцелуй за меня Джоан.
Он положил трубку и подошел ко мне.
— Это была Моника.
— Знаю.
— Она летит сегодня в Нью-Йорк. Ее назначили главным редактором «Стайл».
— Мило, — сказал я.
— Она возьмет Джоан. Ты давно не видел девочку, да?
— С тех пор как ты увел их из моего номера в Чикаго пять лет назад.
— Тебе стоило бы ее увидеть. Она становится настоящей красавицей.
Я воззрился на него. Это нечто: Амос Уинтроп строит из себя гордого деда.
— Однако как ты изменился! — сказал я.
— Рано или поздно человек должен поумнеть, — ответил он, смущенно краснея. — Ты обнаруживаешь, что наделал кучу глупостей и навредил тем, кого любишь. И если ты не полное дерьмо, то пытаешься это исправить.
— Мне случалось это слышать, — саркастически сказал я. У меня не было настроения слушать его нравоучения, как бы сильно он ни поумнел. — Говорят, это случается с теми, у кого уже не сто и т.
Он рассердился, и в нем на мгновение проглянул прежний Амос Уинтроп.
— Сказал бы я тебе кое-что…
— Что, Амос?
— Двигатель можно ставить, мистер Уинтроп, — крикнул механик с порога.
— Иду, — откликнулся Амос и повернулся ко мне. — Напомни мне об этом после пробного полета.
Я ухмыльнулся. По крайней мере он не стал таким святошей, чтобы я не мог вывести его из себя. Когда я вышел в ангар, двигатель работал ровно. Амос обернулся и сказал:
— По-моему, теперь все в порядке.
Я взглянул на часы. Половина пятого.
— Тогда чего мы ждем?
— Ты точно не передумаешь?
Я покачал головой. Семнадцать миллионов были веским аргументом.
* * *
— Вот ваш экипаж, мистер Корд, — официально сказал Амос, когда мы поднялись на борт акваплана. — Джо Кейтс, радист. Стив Яблонски, бортинженер, отвечает за двигатели номер один, три и пять. Барри Голд, бортинженер, отвечает за второй, четвертый и шестой. На них можно положиться. Все трое — ветераны флота и свое дело знают.
Мы обменялись рукопожатиями, и я снова повернулся к Амосу.
— А где второй пилот и штурман?
— Здесь, — ответил он.
— Где?
— Это я.
— Какого черта…
Он ухмыльнулся.
— А кто знает эту малышку лучше меня? Я полгода спал с ней. Кому, как не мне, участвовать в ее первом полете?
Я секунду колебался — и сдался, потому что понимал его. Вчера я был в той же ситуации, когда мне не дали полететь на реактивном самолете.
— По местам, ребята, — скомандовал я, устраиваясь в кресле пилота.
4
Волна разбилась о нос самолета, бросив в лобовое стекло соленые брызги. Я взглянул на часы. Прошло только шестнадцать минут с того момента, как мы стартовали. Шесть мощных двигателей ровно гудели, блестя на солнце лопастями пропеллеров. Кто-то тронул меня за плечо, и я обернулся. Радист стоял со спасательным жилетом в одной руке и парашютом в другой.
— Аварийный комплект, сэр.
Я взглянул на него и увидел, что он уже в жилете, как и двое других.
— Брось за кресло, — сказал я.
Амос тоже надел жилет и закрепил ремень парашюта. Закончив, он уселся, недовольно крякнув.
— Тебе тоже не мешает это надеть.
— Я суеверный, — ответил я. — Мне кажется, если ты их не надеваешь, то они тебе и не понадобятся.
Амос только пожал плечами. Радист вернулся на свое место и пристегнулся.
— Готовы? — спросил я.
— Да, сэр, — ответили они в один голос.
Я переключил рычаг, и красные лампочки сменились зелеными. Теперь красные могут загореться только в случае аварии. Я направил акваплан в открытое море.
— О’кей, ребята. Пошли!
Я осторожно увеличил мощность. Самолет зарылся носом в волну, а потом стал медленно приподниматься над водой, заскользив, словно глиссер. Я взглянул на панель. Индикатор скорости показывал девяносто.
— Скорость для этого полета — сто десять, — раздался сзади голос Амоса.
Я кивнул, не оборачиваясь, и прибавил еще немного. Стрелка сдвинулась на сто, затем на сто десять. Волны били в дно фюзеляжа, как клепальный молоток. Я довел скорость до ста пятнадцати. Секунду ничего не происходило, и я выжал сто двадцать. «Центурион» вдруг задрожал и вырвался из воды. Стрелка рванулась на сто шестьдесят, управление стало легким. Я взглянул в окно: вода была в полусотне метров под нами.
— Черт подери! — пробормотал кто-то у меня за спиной.
Амос развернулся в кресле.
— О’кей, мальчики, — сказал он, протягивая руку. — Гоните монеты. — Он ухмыльнулся мне. — Ребята поспорили со мной на доллар, что нам не оторваться от воды.
Я усмехнулся и продолжил плавный подъем, пока высота не достигла двух тысяч метров. Тогда я повернул машину на запад и нацелил прямо в закатное солнце.
* * *
— С ним управляться проще, чем с детской коляской, — рассмеялся Амос.
Я стоял возле радиста, который объяснял мне устройство нового автоматического передатчика. Достаточно передать сигнал один раз, и записывающее устройство будет повторять его до тех пор, пока не иссякнет питание.
Закатное солнце вернуло седым волосам Амоса рыжий цвет его молодости. Я взглянул на часы. Было шесть пятнадцать, и мы удалились от берега почти на двести миль.
— Пора поворачивать, Амос, — сказал я. — Не стоит совершать первую посадку в темноте.
Самолет совершил плавный разворот, и я снова склонился над плечом радиста. Вдруг самолет резко дернуло, так что я чуть не упал. Стив крикнул:
— Пятый двигатель опять забарахлил!
Я бросился к своему месту и выглянул в окно. Масло гейзером било из двигателя.
— Выруби его! — проорал я, хватаясь за штурвал.
Вместе с Амосом мы выровняли дергающийся самолет.
Пятый двигатель отключился. Пропеллер продолжал медленно вращаться от ветра, но масло течь перестало. Я взглянул на Амоса. Он побледнел и взмок, но сумел улыбнуться.
— Спокойно дотянем и на пяти двигателях.
— Угу.
Согласно расчетам, хватило бы даже трех, но я не собирался экспериментировать. Я взглянул на панель. Индикатор пятого двигателя горел красным. Вдруг красный огонек замигал и на четвертом.
— Что за черт?
Двигатель закашлял.
— Проверь четвертый! — крикнул я и стал снова следить за панелью.
— Засорен топливопровод четвертого.
— Прочисть вакуумным насосом!
— Слушаюсь, сэр.
Я услышал, как он щелкнул выключателем, но в следующее мгновение на панели загорелась еще одна красная лампочка.
— Вакуумный насос вышел из строя, сэр!
— Выключай четвертый! — приказал я.
Неисправный топливопровод грозит пожаром. У нас оставалось еще четыре двигателя.
— Четвертый выключен, сэр!
Прошло десять минут, и все пока было в порядке. Я вздохнул с облегчением.
— Кажется, теперь все в норме — сказал я.
Мне бы промолчать. Не успел я договорить, как стал глохнуть первый двигатель, и на панели вспыхнула очередная красная лампочка. Затем заглох шестой. Панель заиграла огоньками, как рождественская елка.
— Отказал насос для подачи топлива!
Я бросил взгляд на высотомер. Он показывал две тысячи метров, и мы стремительно теряли высоту.
— Передайте сигнал об аварии и приготовьтесь покинуть корабль! — крикнул я.
— Мэйдэй! Мэйдэй! — раздался голос радиста. — Экспериментальный самолет Корда. Падаем в Тихий, примерно в ста двадцати пяти милях на запад от Сан-Диего. Мэйдэй! Мэйдэй!
Щелчок — и сообщение стало передаваться снова. Кто-то тронул меня за плечо, и я быстро обернулся. Увидев радиста, я на мгновение остолбенел, забыв о том, что сигнал передается автоматически.
— Мы останемся, если нужно, — сказал он.
— Нет, моряк, это не во имя Бога и отечества! Это ради денег! Уходите!
Амос остался в своем кресле.
— Ты тоже, Амос! — крикнул я.
Он не ответил. Просто отстегнул ремни и встал. Я услышал, как открылась дверь: они направились к аварийному выходу в пассажирском отсеке.
Высотомер показывал тысячу триста. Я выключил первый и шестой: может, удастся посадить самолет, если в двигателях останется топливо. Вспыхнула еще одна красная лампочка, говоря, что открылся аварийный выход. Вскоре я увидел, как один за другим раскрылись три парашюта. Я снова взглянул на панель. Девятьсот метров.
Услышав шум позади себя, я обернулся. Амос садился обратно в свое кресло.
— Я же велел тебе уходить! — заорал я.
Он взялся за штурвал.
— Ребята в безопасности. Я подумал, что у нас двоих есть шанс посадить его на воду.
— А если нет? — зло крикнул я.
— Мы немного потеряем. В отличие от них, у нас впереди осталось не так много времени. Кроме того, эта малышка чертовски дорогая!
— Ну и что? — проорал я. — Это не твои деньги!
Он посмотрел на меня со странным осуждением.
— В этот самолет вложены не только деньги. Я его построил!
Мы были в трехстах метрах над водой, когда третий двигатель начал загибаться. Мы навалились на штурвал в надежде компенсировать крен. Высота была семьдесят метров, когда третий отключился, и мы завалились на правое крыло.
— Выключай двигатели! — закричал Амос. — Мы падаем!
Я щелкнул выключателем в тот самый момент, когда правое крыло коснулось воды. Оно сразу же отломилось, и самолет с силой ударился о воду. Привязной ремень врезался мне в живот, так что я чуть не закричал от боли, но давление внезапно ослабло. Я огляделся. Мы тяжело покачивались на волнах; левое крыло торчало в небо. В кабину уже начала просачиваться вода.
— Давай выбираться отсюда ко всем чертям, — крикнул Амос и, добравшись до двери, попытался открыть ее. Она не поддавалась, и он ударил ее всем телом.
— Заклинило!
Я попытался открыть запасной люк над креслом пилота, но и он не поддавался. Рама деформировалась, так что открыть люк можно было разве что динамитом.
Амос не мешкал. Схватив гаечный ключ из экстренного набора инструментов, он изо всех сил ударил им по стеклу иллюминатора, и затем, бросив ключ, швырнул мне спасательный жилет.
— О’кей, — сказал он. — Выбирайся.
Я ухмыльнулся.
— Будем соблюдать морские традиции, Амос. Капитан покидает корабль последним. Только после вас, сэр!
— Ты спятил! — заорал он. — Я не пролезу в эту дырку, даже если меня распилить пополам!
— Не такой уж ты большой, — ответил я. — Мы попытаемся.
Внезапно он улыбнулся. Мне следовало бы знать, что этой его улыбке доверять нельзя. Этот волчий оскал появлялся всегда, когда он собирался сделать тебе какую-нибудь гадость.
— Ладно. Капитан — ты.
— Вот так-то лучше, — сказал я, собираясь подсадить его к иллюминатору. — Я знал, что рано или поздно ты наконец поймешь, кто из нас босс.
Но он так и не понял. Я даже не увидел, чем он меня треснул. Я вырубился, но не полностью. Я сознавал происходящее, но ничего не мог поделать. Все мое тело — руки, ноги, голова и все остальное — стали чужими.
Я почувствовал, как Амос толкнул меня к иллюминатору. Потом меня обожгла боль, словно кошачьи когти впились мне в лицо, и я стал падать. Мое падение длилось тысячу часов и тысячу миль, и все это время я искал кольцо парашюта. Я рухнул на крыло, с трудом поднялся и попытался вскарабкаться к иллюминатору.
— Вылезай оттуда, ты, грязный сукин сын! — кричал я, плача. — Вылезай, и я убью тебя!
В этот момент самолет сильно накренился, и какой-то обломок сбил меня в воду. Раздалось негромкое шипение; это спасательный жилет стал наполняться воздухом. Оказавшись в его упругих объятиях, я уронил голову на мягкую подушку и потерял сознание.
5
Хлебнув соленой воды, я чуть не задохнулся, закашлялся и стал яростно выплевывать ее. Открыв глаза, я увидел, что звезды все еще мерцают надо мной, но на востоке небо начало бледнеть. Мне показалось, что вдалеке послышался шум мотора, но, возможно, это звенело у меня в ушах.
Нога ныла, словно я ее отсидел, и когда я пошевелился, боль стрельнула мне прямо в голову. Меня замутило, звезды закружились вокруг меня. Смотреть на них было трудно, так что я отключился.
* * *
Солнце становилось все ярче и ярче. Ярче и ярче. Я открыл глаза. Тонкий луч света бил прямо в лицо. Я заморгал, и луч ушел в сторону. Теперь я мог видеть. Я лежал на столе в белой комнате, и надо мной стоял человек в белом халате и белой шапочке. Пучок света исходил из маленького зеркальца, которое закрывало его глаз. На его лице я разглядел маленькие волоски, которые пропустила бритва. Его губы были сурово сжаты.
— Боже мой! — послышался голос из-за его спины. — Во что превратилось его лицо! Похоже, в нем не меньше ста осколков стекла.
Я скосил глаза и увидел фигуру второго мужчины. Первый повернулся к нему:
— Заткнись, идиот! Не видишь, он пришел в себя?
Я попытался поднять голову, но почувствовал быстрое легкое прикосновение к своему плечу, и в следующее мгновение увидел ее лицо. Оно смотрело на меня с состраданием и милосердием.
— Дженни!
Она заставила меня опуститься обратно на подушку и обратилась к кому-то надо мной.
— Позвоните доктору Розе Штрассмер в клинику Колтона в Санта-Монике. Скажите ей, что Джонас Корд попал в катастрофу и чтобы она немедленно ехала.
— Хорошо, сестра Томас, — послышался голос молодой девушки и удаляющиеся шаги.
Нога и бок снова заболели, и я скрипнул зубами. На мгновение я закрыл глаза, а потом взглянул на Дженни и прошептал:
— Дженни! Прости меня, Дженни!
— Все хорошо, Джонас, — прошептала она мне в ответ, и я ощутил укол иглы в руку. — Не надо разговаривать. Теперь все хорошо.
Я благодарно улыбнулся ей, и засыпая, смутно удивился тому, что ее красивые волосы покрыты смешной белой накидкой.
6
Из окна, с улицы, залитой ярким солнцем, доносились звуки ликования. С военной базы в Сан-Диего время от времени доносились триумфальные гудки кораблей. Это длилось всю ночь: в начале вечера пришло известие о капитуляции Японии. Война окончена.
Теперь я знал то, о чем мне пытался сказать Отто Штрассмер. Из газет и радиоприемника над моей кроватью. Они рассказали о крохотном контейнере с атомами, который привел человечество к вратам рая. Или ада. Я попытался лечь поудобнее, и блок, поддерживавший мою ногу, прибавил свой мышиный писк к остальным звукам.
Мне очень повезло, как сказала одна из медсестер. Повезло. Правая нога была сломана в трех местах, правое бедро в одном; несколько ребер раздробило. И я смотрел на мир сквозь узкие щели в бинтах, которыми было обмотано мое лицо, кроме отверстий для глаз, носа и рта. Но мне повезло. Я остался жив.
В отличие от Амоса, который все еще сидел в кабине «Центуриона» на дне океана, на глубине ста метров. Бедняга Амос. Трое членов экипажа были найдены целыми и невредимыми; я остался жив Божьей милостью и благодаря рыбакам, которые подобрали меня и доставили на берег. А Амос сидит в своей подводной могиле за штурвалом самолета, который он построил и не позволил мне испытывать в одиночку.
Я вспомнил голос бухгалтера, звонившего из Лос-Анджелеса. Он утешил меня:
— Не беспокойтесь, мистер Корд. Мы можем списать все за счет налога на прибыль. В этом случае потери составят менее двух миллионов…
Я швырнул трубку на рычаг. Все это прекрасно. Но как списать другое — жизнь человека, погибшего из-за моей жадности? Существуют ли соответствующие бухгалтерские статьи? Это я убил Амоса, и что бы я ни списывал со своей души, к жизни его не вернешь.
Дверь открылась, и вошла Роза с практикантом и медсестрой, катившей тележку.
— Привет, Джонас, — улыбнулась она.
— Привет, Роза, — пробубнил я сквозь бинты. — Опять пора их менять? Я ждал тебя не раньше послезавтра.
— Война кончилась.
— Да. Знаю.
— А когда я встала сегодня утром, утро было таким прекрасным, что я решила слетать сюда и снять повязку.
— Понятно. Никогда не мог понять, какой логикой руководствуются врачи.
— Это не врачебная, а женская логика.
Я засмеялся.
— Какой бы ни была эта логика, я рад. Приятно избавиться от этих бинтов, хотя бы ненадолго.
Она продолжала улыбаться, но глаза ее посерьезнели.
— На этот раз я сниму их насовсем, Джонас, — сказала она и взяла с тележки ножницы.
Внезапно мне стало страшно расставаться с бинтами. Они покрывали мое лицо как кокон, я чувствовал себя защищенным от любопытных взглядов.
Роза почувствовала мой страх.
— Первое время лицо будет немного болеть, — предупредила она. — Особенно когда мышцы снова начнут работать. Но это пройдет. Не можем же мы навсегда спрятаться за маской, правда?
Когда бинты были сняты, я почувствовал себя новорожденным и попытался увидеть свое отражение у нее в глазах, но они смотрели на меня без всякого выражения, с чисто профессиональным интересом. Ее пальцы прикоснулись к моим щекам, подбородку, затем пригладили волосы на висках.
— Закрой глаза, — она легко коснулась моих век. — Открой.
Я взглянул на нее. Ее лицо оставалось спокойным.
— Улыбнись, — сказала она, изобразив широкую, лишенную юмора улыбку. — Вот так.
Я ухмыльнулся, и мои щеки сразу же обожгло болью. Но я продолжал улыбаться.
— О’кей, — она вдруг улыбнулась по-настоящему. — Достаточно.
Я перестал улыбаться и беззаботно спросил:
— Ну как, док? Ужасно?
— Неплохо, — ответила она бесстрастно. — Ты ведь никогда не был потрясающим красавцем.
Она взяла зеркальце с тележки.
— Вот, взгляни сам.
Мне пока не хотелось себя видеть.
— А можно я сначала покурю?
Она молча положила зеркальце и достала из кармана халата пачку сигарет. Присев на край кровати, она раскурила сигарету и протянула ее мне. Затянувшись, я ощутил сладковатый привкус ее помады.
— Ты сильно порезался, когда Уинтроп проталкивал тебя через иллюминатор. Но, к счастью…
— Откуда ты знаешь об этом? — прервал ее я. — Об Амосе, я имею в виду. Как ты узнала?
— От тебя. Когда ты был под наркозом. К счастью, ни одна из основных лицевых мышц не пострадала. Были в основном поверхностные порезы. Нам удалось быстро пересадить кожу. И успешно.
Я протянул руку.
— Давай зеркало, док!
Она взяла у меня сигарету и вручила мне зеркало. Взглянув в него, я похолодел.
— Док! Но я же вылитый отец!
Она взяла у меня зеркало и улыбнулась.
— Правда, Джонас? Но ведь ты всегда так выглядел.
* * *
Чуть позже Робер принес мне газеты: все писали только о капитуляции Японии. Я отбросил их в сторону.
— Принести вам что-нибудь почитать, мистер Джонас?
— Нет, — ответил я. — Нет, спасибо. Нет настроения.
— Хорошо, мистер Джонас. Наверное, вам лучше поспать.
Робер двинулся к двери.
— Робер!
— Да, мистер Джонас?
— Я… — я замялся, автоматически дотронувшись до щеки. — Я всегда так выглядел?
На его лице вспыхнула белозубая улыбка.
— Да, мистер Джонас.
— Как мой отец?
— Точь-в-точь он.
Я молчал. Странно. Всю жизнь стараешься быть не похожим на человека, а потом узнаешь, что сходство навязано тебе кровью.
— Что-нибудь еще, мистер Джонас?
Я покачал головой.
— Постараюсь уснуть.
Откинувшись на подушку, я закрыл глаза. Звуки с улицы стали постепенно уходить на периферию моего сознания. Я спал. Но довольно скоро проснулся, почувствовав чье-то присутствие. Открыв глаза, я увидел Дженни.
— Привет, Джонас, — улыбнулась она.
— Я спал, — по-детски сказал я. — И мне снилось что-то глупое. Что мне много сотен лет.
— Прекрасный сон. Я рада. Такие сны помогают быстрее поправиться.
Я приподнялся на локте, и блок скрипнул, когда я потянулся за сигаретами. Дженни быстро взбила подушку и подложила мне под спину. Я закурил и окончательно проснулся.
— Через несколько недель тебе снимут гипс, и ты выйдешь отсюда.
— Надеюсь, Дженни, — ответил я и тут только заметил, что на ней нет больничного халата.
— Первый раз вижу тебя в этой черной накидке, Дженни. Это что-нибудь означает?
— Нет, Джонас. Так я одета всегда, когда не дежурю в больнице.
— Значит, сегодня у тебя выходной?
— У тех, кто служит Богу, не бывает выходных, — просто сказала она. — Нет, Джонас. Я пришла попрощаться.
— Попрощаться? Не понимаю. Ты же сказала, что меня…
— Я уезжаю, Джонас.
— Уезжаешь? — недоуменно переспросил я.
— Да, Джонас. На Филиппины. Там мы восстанавливаем больницу, разрушенную во время войны.
— Не может быть, Дженни! Как же ты останешься без знакомых, без родного языка? Ты будешь чужой там, одинокой!
Она дотронулась до крестика, висевшего на кожаном шнурке. Взгляд ее глубоких серых глаз стал еще безмятежнее.
— Я никогда не одинока. Он всегда со мной.
— Не надо, Дженни! Это была только временная профессия. Ты ведь имеешь право отказаться. Впереди еще три года испытательного срока, прежде чем ты дашь обет. Твое место не здесь, Дженни. Ты пришла сюда только потому, что была обижена и зла. Ты слишком молода и прекрасна, чтобы спрятаться под черной мантией!
Она молчала.
— Неужели ты не понимаешь, Дженни? Я хочу, чтобы ты вернулась туда, где твое настоящее место!
Она закрыла глаза, а когда открыла их снова, я увидел, что они наполнены слезами. Но когда она заговорила, в ее голосе звучала абсолютная уверенность.
— Это ты не понимаешь, Джонас. Мне никуда не нужно возвращаться, потому что мое место здесь, в Его доме.
Я хотел возразить, но она жестом остановила меня.
— Ты думаешь, я пришла к Нему из злости или от обиды? Ошибаешься. К Богу не бегут от жизни, к Нему бегут, чтобы обрести жизнь. Всю жизнь я искала Его и не знала об этом. Здесь, в Его доме, я познала великую любовь. Его любовь дает мне уверенность, защиту и счастье. — Она помолчала, глядя на крестик в своей руке. Когда она снова взглянула на меня, ее глаза были чистыми и безоблачными. — Кто может предложить мне больше, чем Бог?
Я ничего не ответил.
Она протянула мне левую руку. Я увидел на ее безымянном пальце массивное серебряное кольцо.
— Он позвал меня в Свой дом, — мягко сказала она, — и я надела Его кольцо, чтобы обитать там всегда.
Я взял ее руку и прижался к кольцу губами. Она нежно погладила меня по голове и встала.
— Я буду часто думать о тебе, мой друг, — ласково произнесла она. — И молиться за тебя.
Я молча потушил сигарету. В ее глазах была красота, которой я прежде никогда не замечал.
— Спасибо, сестра, — негромко сказал я.
Она повернулась и ушла, а я уткнулся в подушку и заплакал.
7
Меня выписали из больницы в начале сентября. Я сидел в инвалидной коляске, наблюдая за тем, как Робер упаковывает мои вещи, — и тут вошел Невада.
— Привет, паренек!
— Невада! Что ты здесь делаешь?
— Приехал отвезти тебя домой.
Я рассмеялся. Странно: иногда не вспоминаешь человека годами, а потом вдруг страшно радуешься встрече с ним.
— В этом не было необходимости, — сказал я. — Робер справился бы и сам.
— Это я попросил мистера Неваду приехать, мистер Джонас, — сказал Робер. — На ранчо бывает сильно одиноко, когда сидишь без дела.
— А я решил, что мне пора уехать в отпуск, — сказал Невада. — Война кончилась, а шоу закрылось на зиму. И Марта обожает ухаживать за больными. Она уже там, приводит все в порядок.
Робер захлопнул чемодан и щелкнул замком.
— Все готово, мистер Невада.
— Тогда поехали, — сказал он и покатил мою коляску.
— Нам придется заехать в Бербэнк, — сказал я. — Мак приготовил для меня целую кипу бумаг.
Мы прилетели туда в два часа дня. Когда Невада вкатил меня в кабинет, Мак встал из-за стола.
— Знаешь, Джонас, впервые на моей памяти ты сидишь.
Я рассмеялся.
— Пользуйся моментом. Врачи говорят, что через пару недель я буду как новенький.
— Ну, воспользуюсь своей удачей. Катите его к столу, ребята, ручка уже готова!
Было почти четыре часа, когда я кончил подписывать бумаги. Устало взглянув на Мака, я спросил:
— Что еще у вас новенького?
Мак подошел к столу у стены.
— Вот что.
Он снял чехол с какой-то штуки, похожей на радиоприемник с окошком.
— Что это?
— Первый продукт фирмы «Электроника Корда», — гордо сказал он. — Телевизор.
— Телевизор?
— Изображение передается по воздуху, так же как радиосигналы, и воспроизводится на этом экране.
— А, над этой штукой начали работать перед самой войной. Ничего не получилось.
— Теперь получилось, — сказал Мак. — Это новое открытие. Все радио- и электронные компании начинают им заниматься. Хочешь посмотреть в действии?
— Конечно.
Он подошел к телефону и сказал в трубку:
— Дайте мне лабораторию.
Он вернулся к телевизору и включил его. Окошко засветилось, и на нем начали появляться круги и полоски, постепенно превратившиеся в надпись: «Фирма „Корд“ представляет». Внезапно надпись сменилась изображением всадника, скачущего прямо в камеру. Когда лицо показали крупным планом, я узнал Неваду. Это была сцена из «Ренегата». Минут пять мы смотрели молча, а потом Невада сказал:
— Черт побери! Так вот почему они захотели купить мои старые картины!
— О чем ты? — спросил я.
— Меня уговаривают продать те девяносто с чем-то картин, которые принадлежат мне. И за хорошие деньги — по пять тысяч.
Мгновение я смотрел на него, а потом сказал:
— Я усвоил одно хорошее правило кинобизнеса. Никогда не продавай то, за что можешь получать проценты.
— Ты думаешь, мне следует давать их напрокат?
— Да. Я их знаю. Раз они покупают за пять, значит рассчитывают получить пятьдесят.
— Я плохо смыслю в этих делах, — признался Невада. — Не мог бы ты этим заняться, Мак?
— Не знаю, Невада. Я же не агент.
— Соглашайся, Мак, — сказал я. — Помнишь, ты говорил, что хочешь заниматься конкретными делами?
Макалистер неожиданно улыбнулся.
— О’кей, Невада. Кстати, Джонас, мы так и не нашли замену Боннеру. Адвокат — неподходящий президент для кинокомпании. Я ведь ничего не смыслю в кино.
Я задумался. Он был прав. Но кто тогда? Только Дэвид, но он погиб. Да и мне это было неинтересно. У меня не осталось ни новых идей, ни желания открыть новую звезду. Кроме того, эта маленькая коробочка скоро появится в каждом доме. Она будет перемалывать столько фильмов, сколько кинотеатрам и не снилось. Но мне все равно было неинтересно. Даже ребенком я знал, что когда игрушка надоедает — она надоедает навсегда.
— Продай кинотеатры, Мак.
— Что? — воскликнул он, не поверив своим ушам. — Да ведь только они и приносили прибыль!
— Продай кинотеатры, — повторил я. — Через десять лет в них никто не пойдет. Все будут смотреть кино, сидя у себя дома.
Мак изумленно воззрился на меня.
— А что мне делать со студией? — спросил он не без сарказма. — Тоже продать?
— Да, — негромко ответил я. — Но не сейчас. Лет через десять. Когда людям, которые будут делать картины для этой коробочки, понадобится место.
— А что прикажешь делать с ней сейчас? Пусть разлагается?
— Нет. Сдавай ее внаем, как старую «Голдвин». Если она будет окупаться или работать с небольшим убытком, я не стану жаловаться.
— Ты это серьезно?
— Да, — ответил я, переведя взгляд наверх, на крыши студии. Я впервые увидел их по-настоящему.
— Мак, видишь ту крышу? — Он проследил за моим взглядом. — Первым делом, — тихо добавил я, — вели покрасить ее в белый цвет.
В машине Невада странно посмотрел на меня и почти печально спросил:
— Ничего не изменилось, да, Джонас?
— Верно, не изменилось, — устало согласился я.
8
Мы с Невадой сидели на террасе под полуденным солнцем. Марта принесла чай, и в этот момент послышался шум машины.
— Интересно, кто это? — спросила Марта.
— Может, врач, — ответил я.
Старый док Хэнли приезжал каждую неделю осматривать меня. Но когда машина подъехала ближе, я понял, кто это. Я встал навстречу Монике и Джоан, направлявшихся к нам.
— Привет!
Моника объяснила, что они забрали последние вещи из Калифорнии и заехали ко мне по пути в Нью-Йорк, так как Моника хотела поговорить со мной об Амосе. Я заметил, как Марта многозначительно посмотрела на Неваду. Тот встал и взглянул на Джоан.
— У меня есть послушный гнедой конек, который мечтает о том, чтобы какая-нибудь молодая леди вроде тебя проехалась на нем верхом.
Девочка посмотрела на него с обожанием: он был настоящим живым героем!
— Не знаю, — смущенно сказала она. — Я никогда раньше не ездила верхом…
— Я тебя научу, — ответил Невада. — Это совсем просто.
— Но она неподходяще одета, — усомнилась Моника.
Это было так. На Джоан было нарядное платье, в котором она ужасно походила на мать.
— У меня есть джинсы, — быстро нашлась Марта. — Они очень сели после стирки, и Джоан как раз подойдут.
Не знаю, чьи это были джинсы, но одно я знал точно: Марте они не принадлежали никогда. На четырнадцатилетней Джоан они сидели как влитые. Она собрала свои темные волосы в хвост, и ее лицо показалось мне странно знакомым. Но я так и не понял, почему.
Проводив ее взглядом, я повернулся к Монике. Она улыбалась мне. Я ответно улыбнулся и сказал:
— Она взрослеет. Красивая будет девушка.
— Сегодня — ребенок, завтра — уже юная леди. Дети растут слишком быстро.
Я кивнул. Мы были одни, и на мгновение между нами воцарилось неловкое молчание. Я достал сигарету.
— Хочу рассказать тебе про Амоса.
Когда я кончил свой рассказ, в ее глазах не было слез — только печаль.
— Я не могу о нем плакать, Джонас. Я слишком часто плакала по его вине. Понимаешь?
Я кивнул.
— В жизни он сделал много дурного. Я рада, что хоть раз он поступил правильно.
— Он поступил очень мужественно. Мне всегда казалось, что он меня ненавидит.
— Да, он тебя ненавидел. Потому что ты был тем, чем сам он не стал. Решительным, богатым и удачливым. Наверное, в конце концов он понял, как глупо это было и сколько он уже тебе навредил. И он попытался это исправить.
— Чем он мне навредил? У нас были чисто деловые отношения.
Она странно посмотрела на меня.
— Ты до сих пор так и не понял?
— Нет.
— Значит, уже не поймешь, — сказала она, подходя к перилам.
От загона до нас доносился смех Джоан. У нее неплохо получалось для начинающей. Я взглянул на Монику.
— Она словно родилась в седле.
— Почему бы и нет? Говорят, такие вещи передаются по наследству.
— Я не знал, что ты ездишь верхом.
Она обиженно и сердито взглянула на меня.
— Я — не единственный родитель Джоан, — огрызнулась она.
Моника впервые упомянула отца Джоан. Эта поздняя обида была мне непонятна.
Послышался шум старого автомобиля доктора Хэнли. Выйдя из машины, он остановился возле ограды.
— Это док Хэнли, — пояснил я. — Он приехал осмотреть меня.
— Ну, не буду тебя задерживать, — холодно сказала Моника. — До свидания.
Она спустилась по ступенькам и направилась к загону. Я озадаченно смотрел ей вслед. Никогда я не понимал ее настроений.
— Робер отвезет вас на станцию, — крикнул я ей вслед.
— Спасибо! — бросила она через плечо.
Уходя, она обменялась с врачом парой фраз. Я вернулся в дом, в кабинет моего отца. Моника всегда была вспыльчивой, но пора бы уж ей научиться сдерживаться. Я улыбнулся, вспомнив, как она удалялась, возмущенно вскинув голову. Она очень неплохо выглядела для своего возраста. Мне сорок один, значит ей — тридцать четыре.
* * *
Док Хэнли любил поговорить. Он мог заговорить человека до умопомрачения, но что поделаешь: все молодые врачи были в армии.
Только в половине седьмого он кончил осмотр и стал закрывать свой чемоданчик.
— Все в порядке, — сказал он. — Но будь моя воля, я оставил бы вас в больнице еще на месяц.
Невада стоял, привалившись к стене, и с улыбкой смотрел, как я натягиваю брюки. Я пожал плечами.
— Когда мне можно начинать ходить? — спросил я.
Док Хэнли посмотрел на меня поверх очков.
— Хоть сейчас.
— А мне казалось, что вы не согласны с городскими врачами и хотите, чтобы я лежал?
— Я не согласен с ними, — ответил Хэнли. — Но раз уж вы не в больнице и с этим ничего не поделаешь, то начинайте двигаться.
Он захлопнул чемоданчик, выпрямился и шагнул к двери. Обернувшись, он сказал:
— Какая у вас славная дочка.
Я уставился на него.
— Дочь?
— Ну да, — ответил он. — Она как две капли воды похожа на вас в детстве.
Я не нашелся, что ответить. Неужели он спятил? Все знают, что Джоан — не моя дочь.
Док вдруг рассмеялся и хлопнул себя по бедру.
— Никогда не забуду, как ее мать пришла ко мне на прием! Тогда она была вашей женой, конечно. Никогда в жизни не видел такого огромного живота. Я еще решил: понятно, почему вы так поспешно поженились. — Он продолжал улыбаться. — Но когда я ее осмотрел, то чуть не упал! Оказалось, что у нее всего шесть недель. Она так нервничала, что ее раздуло от газов, как воздушный шар. Я даже отыскал старые газеты и проверил дату вашей свадьбы. Ребенка вы сделали почти через две недели после свадьбы. И вот что я скажу тебе, мой мальчик: у тебя это здорово получается!
Продолжая пошло хихикать, он удалился.
Я сел, чувствуя в горле тошнотворный ком. Столько лет… И все эти годы я ошибался. Так вот что хотел мне сказать Амос.
Что за комбинация — мы с Амосом. Но он, во всяком случае, сам все понял, не дожидаясь, когда его треснут по голове. А я даже и не пытался увидеть правду. Мне нравилось винить весь мир в моей собственной глупости. И это я воевал с отцом из-за того, что он не любит меня! Самая большая нелепость в моей жизни!
Теперь я, по крайней мере, смог взглянуть правде в лицо. Не в его любви сомневался я, а в своей. Я всегда сознавал, что не могу любить его так, как любил меня он. Я взглянул на Неваду. Он все еще стоял, прислонившись к стене, но уже не улыбался.
— Ты тоже видел?
— Да, — ответил он. — Все видели, кроме тебя.
Я закрыл глаза. Теперь мне все стало ясно. Как в то утро в больнице, когда я взглянул в зеркало и увидел лицо своего отца. Вот почему лицо Джоан показалось мне таким знакомым. Это было лицо ее отца. Мое собственное.
— Что же мне делать, Невада?! — застонал я.
— А что тебе хочется сделать, сынок?
— Вернуть их.
— Ты уверен?
Я кивнул.
— Тогда верни, — сказал он и взглянул на часы. — До отхода поезда еще пятнадцать минут.
— Но как? Нам туда не успеть!
— Есть телефон.
Я заковылял к телефону. Позвонил начальнику вокзала в Рено и попросил подозвать Монику. Ожидая, пока она подойдет к телефону, я взглянул на Неваду. Мне стало страшно, и я, как в детстве, искал у него поддержки.
— А вдруг она не захочет вернуться?
— Она вернется, — уверенно ответил он и улыбнулся. — Она все еще любит тебя. Об этом тоже знают все, кроме тебя.
В трубке послышался ее встревоженный голос:
— Джонас, что с тобой? Что-то случилось?
Секунду я не мог вымолвить ни слова, а потом сумел произнести:
— Моника, не уезжай!
— Но мне нужно приступить к работе в конце недели.
— К черту работу, ты нужна мне!
Телефон молчал, и на секунду мне показалось, что она бросила трубку.
— Моника!
— Слушаю, Джонас.
— Я был неправ все это время. Я не знал о Джоан. Поверь мне.
Снова тишина.
— Пожалуйста, Моника!
Она заплакала, и я услышал шепот в трубке:
— Ох, Джонас, я всегда тебя любила.
Я взглянул на Неваду. Он улыбнулся и вышел, прикрыв за собой дверь.
Я услышал, как она всхлипнула, а потом ее голос вдруг стал ясным и полным любви:
— Когда Джоан была маленькой, ей всегда хотелось братика.
— Приезжай скорее, — сказал я. — Сделаю, что смогу.
Она рассмеялась и повесила трубку. Я сидел, продолжая держать трубку в руке. Мне казалось, что так Моника ближе ко мне. Я взглянул на фотографию отца над столом.
— Ну что, старик, — сказал я, впервые в жизни попросив его одобрения, — теперь я поступил правильно?
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления