Онлайн чтение книги
Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя
The Vicomte of Bragelonne: Ten Years Later
Часть четвертая

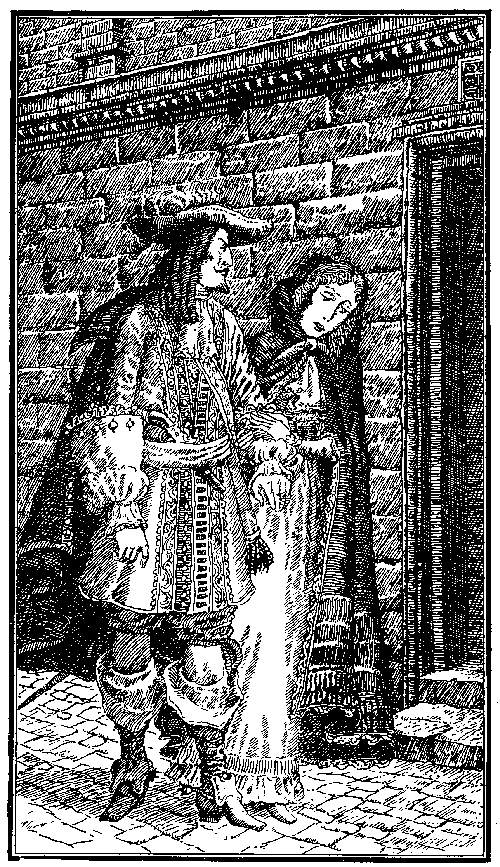

I. Чего не предвидели ни наяда, ни дриада
Чего не предвидели ни наяда, ни дриада Де Сент-Эньян остановился на площадке лестницы, которая вела на антресоли к фрейлинам и во второй этаж к принцессе. Там он велел проходившему лакею позвать Маликорна, который еще был у принца.
Через десять минут пришел Маликорн и стал внимательно всматриваться в темноту.
Король отступил в дальний угол вестибюля. Наоборот, де Сент-Эньян выступил вперед.
Выслушав его просьбу, Маликорн растерялся.
— Ого, — сказал он, — вы хотите, чтобы я провел вас в комнаты фрейлин?
— Да.
— Вы понимаете, что я не могу исполнить подобной просьбы, не зная цели вашего визита?
— К несчастью, дорогой Маликорн, я лишен возможности дать вам какое-либо объяснение; вы должны довериться мне, как другу, оказавшему вам услугу вчера, который просит, чтобы вы оказали ему услугу сегодня.
— Но ведь я, сударь, сказал вам, что мне было нужно: я просто не хотел спать под открытым небом. Каждый честный человек может признаться в этом, вы же ничего не сообщаете мне.
— Поверьте, дорогой Маликорн, — настаивал де Сент-Эньян, — что, если бы мне было позволено, я объяснил бы вам все.
— В таком случае, сударь, я никак не могу позволить вам войти к мадемуазель де Монтале.
— Почему?
— Вам это известно лучше, чем кому-нибудь, потому что вы застали меня на заборе, когда я открывал свое сердце мадемуазель де Монтале; согласитесь, что моя любезность простиралась бы слишком далеко, если бы, ухаживая за ней, я сам открыл бы дверь в ее комнату.
— Кто же вам сказал, что я прошу у вас ключ от ее комнаты?
— Тогда от чьей же?
— Она, кажется, живет не одна?
— Нет, не одна.
— Вместе с мадемуазель де Лавальер?
— Да, но у вас не может быть дела к мадемуазель де Лавальер, так же как и к мадемуазель де Монтале; есть только два человека, которым я вручил бы этот ключ: господину де Бражелону, если бы он попросил меня дать его, и королю, если бы он приказал мне.
— В таком случае дайте мне этот ключ, сударь, я вам приказываю, — произнес король, выступая из темноты и распахивая свой плащ. — Мадемуазель де Монтале спустится к вам, а мы поднимемся к мадемуазель де Лавальер; у нас дело только к ней.
— Король! — вскричал Маликорн, падая к ногам Людовика.
— Да, король, — отвечал с улыбкой Людовик, — который вам так же благодарен за ваше сопротивление, как и за вашу капитуляцию. Вставайте, сударь, и окажите нам услугу, которую мы просим от вас.
— Слушаю, государь, — сказал Маликорн, поднимаясь с колен.
— Попросите мадемуазель де Монтале спуститься, — приказал король, — и ни слова о моем визите.
Маликорн поклонился в знак повиновения и стал подниматься по лестнице.
Однако король внезапно изменил решение и двинулся за ним так поспешно, что хотя Маликорн поднялся уже до половины лестницы, Людовик одновременно с ним дошел до комнаты фрейлин.
Он увидел через полуоткрытую дверь Лавальер, сидевшую в кресле, и в другом углу комнаты Монтале, причесывающуюся перед зеркалом и вступившую в переговоры с Маликорном.
Король быстро распахнул дверь и вошел. Монтале вскрикнула и, узнав короля, убежала. Видя это, Лавальер тоже выпрямилась, но тотчас же снова упала в кресло.
Король медленно подошел к ней.
— Вы хотели аудиенции, мадемуазель, — холодно начал он, — я готов выслушать вас. Говорите.
Де Сент-Эньян, верный своей роли глухого, слепого и немого, поместился в углу подле двери на табурете, который точно нарочно был поставлен для него. Спрятавшись за портьеру, он исполнял роль доброй сторожевой собаки, охраняющей своего хозяина и не беспокоящей его.
Пришедшая в ужас при виде раздраженного короля, Лавальер встала во второй раз и умоляюще взглянула на Людовика.
— Государь, — пробормотала она, — простите меня.
— За что же вас прощать, сударыня? — спросил Людовик XIV.
— Государь, я очень провинилась, больше того: я совершила преступление.
— Вы?
— Государь, я оскорбила ваше величество.
— Ни капельки, — отвечал Людовик XIV.
— Государь, умоляю вас, не говорите со мной так сурово. Я чувствую, что я оскорбила вас, государь. Но я объясню вам, что это было сделано мной не умышленно.
— Чем же, однако, сударыня, — сказал король, — вы оскорбили меня? Я ничего не понимаю. Шуткой молодой девушки, шуткой совершенно наивной? Вы посмеялись над легковерным молодым человеком: это вполне естественно; каждая женщина на вашем месте подшутила бы точно так же.
— О, ваше величество, вы уничтожаете меня этими словами.
— Почему же?
— Потому что, если бы шутка исходила от меня, она не была бы невинной.
— Это все, что вы хотели сказать мне, прося у меня аудиенции?
И король сделал движение, как бы собираясь уйти.
Тогда Лавальер, шагнув к королю, отрывистым, прерывающимся голосом воскликнула:
— Ваше величество слышали все?
— Что все?
— Все, что было сказано мной под королевским дубом?
— Я не пропустил ни одного слова, мадемуазель.
— И, слушая меня, ваше величество могли подумать, что я злоупотребила вашим легковерием?
— Да, легковерием, это вы правильно сказали.
— Разве вашему величеству неизвестно, что бедные девушки иногда бывают вынуждены повиноваться чужой воле?
— Простите, я не могу понять, каким образом та воля, которая, по всей вероятности, проявилась так свободно под королевским дубом, могла до такой степени подчиниться чужой воле.
— О, но угроза, государь?
— Угроза?.. Кто вам грозил? Кто смел вам грозить?..
— Те, кто имеет на это право, государь.
— Я не признаю ни за кем права грозить в моем королевстве.
— Простите меня, государь, даже около вашего величества есть люди, достаточно высокопоставленные, которые считают возможным погубить девушку без будущности, без состояния, не имеющую ничего, кроме доброго имени.
— Как же они могут погубить ее?
— Погубить ее репутацию путем позорного изгнания.
— Мадемуазель, — проговорил король с глубокой горечью, — я не люблю людей, которые, оправдываясь, возводят вину на других.
— Государь!
— Да, мне тяжело видеть, что вместо простого признания вы плетете передо мной целую сеть упреков и обвинений.
— Которым вы не придаете никакого значения?.. — воскликнула Луиза.
Король промолчал.
— Скажите же! — с горячностью повторила Лавальер.
— Мне грустно признаться в этом, — сказал король с холодным поклоном.
Девушка всплеснула руками.
— Значит, вы мне не верите? — спросила она.
Король ничего не ответил.
— Значит, вы предполагаете, что я, я… что это я составила этот смешной, бесчестный заговор, чтобы так безрассудно посмеяться над вашим величеством?
— Боже мой, это совсем не смешно и не бесчестно, — возразил король, — это даже не заговор, просто довольно забавная шутка, и больше ничего.
— О! — в отчаянии прошептала Лавальер. — Король мне не верит! Король не хочет мне верить!
— Да, не хочу.
— Боже! Боже!
— Послушайте, что может быть естественнее? Король идет за мной следом, подслушивает меня, подстерегает; король, может быть, хочет позабавиться надо мной; ну что же, а мы позабавимся над ним. И так как у короля есть сердце, уколем его в сердце.
Лавальер закрыла лицо руками, заглушая рыдания. Людовик безжалостно продолжал говорить, вымещая на бедной жертве все, что он вытерпел сам:
— Придумаем же басню, скажем, что я люблю его, что я остановила на нем свой выбор. Король так наивен и так самонадеян, что поверит мне; тогда мы повсюду разгласим об этой наивности короля и посмеемся над ним.
— О, — вскричала Лавальер, — думать так… это ужасно!
— Это еще не все, — продолжал король. — Если этот надменный король примет шутку всерьез, если он неосторожно выразит при других что-либо похожее на радость, вот тогда-то мы унизим его перед всем двором; то-то будет приятно рассказать об этом моему возлюбленному; похождение государя, одураченного лукавой девушкой, — чем не приданое для будущего мужа!
— Государь, — воскликнула в полном отчаянии Лавальер, — ни слова больше, умоляю вас! Разве вы не видите, что вы убиваете меня?
— О, тонкая шутка, — прошептал король, уже начавший немного смягчаться.
Лавальер внезапно рухнула на колени, сильно ударившись о паркет.
— Государь, — молила она, ломая руки, — я предпочитаю позор предательству!
— Что вы делаете? — спросил король, но не шевельнул пальцем, чтобы поднять девушку.
— Государь, когда я пожертвую ради вас своей честью и своей жизнью, вы, может быть, поверите моей правдивости. Рассказ, который вы слышали у принцессы, — ложь; а то, что я сказала под дубом…
— Ну?
— Только это и было правдой.
— Сударыня! — воскликнул король.
— Государь, — продолжала Лавальер, увлекаемая своим неистово пылким чувством. — Государь, если бы даже мне пришлось умереть от стыда на этом месте, я твердила бы до потери голоса: я сказала, что люблю вас… я действительно люблю вас!
— Вы!
— Я вас люблю, государь, с того дня, как я вас увидела, с той минуты, как там, в Блуа, где я томилась, ваш царственный взгляд упал на меня, лучезарный и животворящий; я вас люблю, государь! Я знаю: бедная девушка, любящая своего короля и признающаяся ему в этом, совершает оскорбление величества. Накажите меня за эту дерзость, презирайте за безрассудство, но никогда не говорите, никогда не думайте, что я посмеялась над вами, что я предала вас! Во мне течет кровь, верная королям, государь, и я люблю… люблю моего короля!.. Ах, я умираю!
И, лишившись сил, задыхаясь, она упала как подкошенная, подобно цветку, срезанному серпом жнеца, о котором рассказывает Вергилий.
После этих слов, после этой горячей мольбы у короля не осталось ни досады, ни сомнений; все его сердце открылось для жгучего дыхания этой любви, высказанной с таким благородством и таким мужеством.
Услышав это страстное признание, Людовик ослабел и закрыл лицо руками. Но когда пальцы Лавальер ухватились за его руки и горячее пожатие влюбленной девушки согрело их, он загорелся, в свою очередь, и, схватив Лавальер в объятия, поднял ее и прижал к сердцу.
Голова ее безжизненно опустилась к нему на плечо. Испуганный король подозвал де Сент-Эньяна.
Де Сент-Эньян, неподвижно сидевший в своем углу, подбежал, делая вид, что вытирает слезы. Он помог Людовику усадить девушку в кресло, попытался помочь ей, обрызгал «водой венгерской королевы», повторяя при этом:
— Сударыня! Послушайте, сударыня! Успокойтесь! Король вам верит, король вас прощает. Да очнитесь же! Вы можете очень сильно разволновать короля, сударыня; его величество чувствительны, у его величества ведь тоже есть сердце. Ах, черт возьми! Сударыня, извольте обратить ваше внимание, король очень побледнел!
Но Лавальер оставалась в забытьи.
— Сударыня, сударыня! — продолжал де Сент-Эньян. — Да очнитесь же, прошу вас, умоляю, пора! Подумайте: если королю сделается дурно, мне придется звать врача. Ах, какое несчастье, боже мой! Дорогая, да очнитесь же! Сделайте усилие, живее, живее!
Трудно было говорить более красноречиво и более убедительно, чем Сент-Эньян; но нечто более сильное, чем это красноречие, привело Лавальер в чувство.
Король опустился перед ней на колени и стал покрывать ее руки жгучими поцелуями. Она наконец пришла в себя, открыла глаза, в которых едва теплилась жизнь, и прошептала:
— О, государь, значит, ваше величество прощаете меня?
Король не отвечал… Он был слишком взволнован.
Де Сент-Эньян снова счел своим долгом отойти. Он увидел, что глаза его величества зажглись пламенем.
Лавальер встала.
— А теперь, государь, — мужественно произнесла она, — теперь, когда я оправдалась, по крайней мере в глазах вашего величества, разрешите мне удалиться в монастырь. Там я буду благословлять моего короля всю жизнь и умру, прославляя бога, который даровал мне один день счастья.
— Нет, нет, — отвечал король, — вы будете жить здесь, благословляя бога и любя Людовика, который устроит вам жизнь, полную блаженства, который вас любит и клянется вам в этом!
— О государь, государь!
Чтобы рассеять сомнения Лавальер, король стал целовать ее с таким жаром, что де Сент-Эньян поспешил скрыться за портьерой.
Эти поцелуи, которые она сначала не имела силы отвергнуть, воспламенили молодую девушку.
— О государь! — воскликнула она. — Не заставляйте меня раскаяться в моей откровенности, ибо это доказало бы мне, что ваше величество все еще презираете меня.
— Сударыня, — сказал король, почтительно отступая от нее, — никого в мире я не люблю и не уважаю так, как вас. И отныне никто при моем дворе, клянусь вам, не будет пользоваться таким почетом, как вы. Прошу вас простить мой порыв, сударыня, рожденный избытком любви; но я еще лучше докажу вам ее силу, оказывая вам все уважение, какого вы можете пожелать.
Затем, поклонившись ей, спросил:
— Сударыня, вы разрешите запечатлеть поцелуй на вашей руке?
И он почтительно коснулся губами дрожащей руки молодой девушки.
— Отныне, — прибавил Людовик, выпрямляясь и лаская Лавальер взглядом, — отныне вы под моим покровительством. Никогда не говорите никому о зле, которое я вам причинил, и простите других за то, что они сделали вам. Теперь вы будете стоять настолько выше их, что они не только не внушат вам ни тени страха, но будут возбуждать у вас даже жалость.
И, сделав ей почтительный поклон, точно выходя из храма, король подозвал де Сент-Эньяна.
— Граф, — сказал он, — надеюсь, что мадемуазель согласится удостоить вас некоторой долей своей благосклонности взамен той дружбы, которую я навеки дарю ей.
Де Сент-Эньян преклонил колено перед Лавальер.
— Как я буду счастлив, — прошептал он, — если мадемуазель удостоит меня этой чести!
— Я пошлю вам вашу подругу, — произнес король. — Прощайте, мадемуазель, или лучше — до свидания!
И король весело удалился, увлекая за собой де Сент-Эньяна. Принцесса не предвидела такой развязки. Ни наяда, ни дриада ничего не говорили ей об этом.
II. Новый генерал иезуитского ордена
В то время как Лавальер и король соединяли в первом признании печали прошлого, счастье текущей минуты и надежды на будущее, Фуке, вернувшись домой, то есть в апартаменты, отведенные ему в замке, разговаривал с Арамисом обо всем том, чем король в данную минуту пренебрегал.
— Скажите мне, — начал Фуке, усадив своего гостя в кресло и сам усевшись рядом, — скажите мне, господин д’Эрбле, как идут дела в Бель-Иле, есть у вас оттуда какие-нибудь известия?
— Господин суперинтендант, — отвечал Арамис, — там все идет согласно нашим желаниям; все расходы оплачены, ни один из наших планов не обнаружен.
— А гарнизон, который король собирался поставить там?
— Сегодня утром я узнал, что он прибыл туда уже две недели назад.
— А как его там приняли?
— Прекрасно.
— Что же сталось с прежним гарнизоном?
— Он высадился в Сарзо, и оттуда его немедленно отправили в Кемпер.
— А новый гарнизон?
— Он сейчас наш.
— Вы уверены в том, что говорите, епископ?
— Уверен. И вы сейчас узнаете, как все это произошло.
— Но ведь из всех гарнизонных стоянок Бель-Иль самая худшая?
— Знаю — и действую сообразно с этим; теснота, отрезанность от мира, нет женщин, нет игорных домов. А в наше время, — прибавил Арамис со свойственной только ему одному улыбкой, — очень грустно видеть, до чего молодые люди жаждут развлечения и, следовательно, до чего они бывают расположены к тому, кто дает им возможность повеселиться.
— А если они будут развлекаться в Бель-Иле?
— Если они будут развлекаться благодаря королю, они отдадут сердце королю; если же они будут скучать из-за короля и развлекаться по милости господина Фуке, они полюбят господина Фуке.
— А вы предупредили моего интенданта, чтобы немедленно по их прибытии…
— Нет, мы дали им поскучать с недельку, а через неделю они взвыли, сказав, что прежние офицеры имели больше развлечений, чем они. Тогда им было сказано, что прежние офицеры умели завязать дружбу с господином Фуке и что господин Фуке, видя в них своих друзей, приложил все старания, чтобы они не скучали в его владениях. Они задумались. Но интендант тотчас же прибавил, что хотя ему и неизвестно распоряжение господина Фуке, он все же достаточно знает своего господина и с уверенностью может сказать, что каждый дворянин, состоящий на службе короля, интересует его. И хотя новоприбывшие неизвестны ему, он готов сделать для них то же, что делал и для других.
— Чудесно! И, надеюсь, обещания были приведены в исполнение? Ведь вы знаете, я не хочу, чтобы от моего имени давались пустые обещания.
— После этого в распоряжение офицеров были предоставлены два судна и лошади; им были вручены ключи от главного здания; теперь они устраивают там охоты и катаются с бель-ильскими дамами, по крайней мере с теми из них, которые не боятся морской болезни.
— Ну а солдаты?
— Все относительно, вы понимаете; солдатам дают вино, превосходную пищу и большое жалованье. Значит, мы можем положиться на этот гарнизон.
— Хорошо.
— Отсюда следует, что если каждые два месяца у нас будут менять гарнизон, то за два года вся армия перебывает в Бель-Иле. Тогда за нас будет не один полк, а пятьдесят тысяч человек.
— Я хорошо знал, — сказал Фуке, — что никто, кроме вас, господин д’Эрбле, не может быть таким драгоценным, таким незаменимым другом, но при всем этом, — прибавил он со смехом, — мы забываем нашего друга дю Валлона. Что с ним? В течение трех дней, которые я провел в Сен-Манде, я забыл обо всем на свете, признаюсь.
— Ну, да я-то не забыл, — отвечал Арамис. — Портос в Сен-Манде; его там ублажают как нельзя лучше, кормят изысканно, подают тонкие вина; он гуляет в маленьком парке, открытом только для вас одного; он им пользуется. Он упражняет свои мышцы, сгибая молодые вязы или ломая старые дубы, как Милон Кротонский, а так как в парке нет львов, то мы, вероятно, застанем его невредимым. Наш Портос — храбрец!
— Да, но тем временем он соскучится, начнет расспрашивать.
— Он ни с кем не видится.
— Но ведь он же чего-нибудь ждет, на что-нибудь надеется?
— Я внушил ему одну надежду, и он живет ею.
— Какую же?
— Быть представленным королю.
— Ого! В качестве кого?
— В качестве инженера Бель-Иля, черт возьми!
— Значит, теперь нужно, чтобы он вернулся в Бель-Иль?
— Обязательно; я даже думаю отослать его туда как можно скорее. Портос — представительная личность; только д’Артаньян, Атос и я знаем его слабости. Портос никому не доверяется, он исполнен достоинства; на офицеров он произведет впечатление паладина времен крестовых походов. Он напоит весь главный штаб, не пьянея сам, и станет предметом общего удивления и симпатии, затем, если бы нам понадобилось какое-нибудь приказание, Портос — воплощенный приказ: всякий вынужден будет исполнить то, что он пожелает.
— Так отошлите его.
— Это как раз то, чего я хочу, но только через несколько дней, ибо мне нужно сказать вам одну вещь.
— Какую?
— Я не доверяю д’Артаньяну. Как вы могли заметить, его нет в Фонтенбло, а д’Артаньян никогда не уезжает попусту. Поэтому теперь, покончив со своими делами, я постараюсь узнать, что за дела у д’Артаньяна.
— Вы все уладили?
— Да.
— Счастливец вы, хотелось бы и мне сказать то же.
— Надеюсь, что у вас нет никаких беспокойств?
— Гм!
— В таком случае, — произнес Арамис со свойственной ему последовательностью в мыслях, — в таком случае мы можем подумать о том, что я говорил вам вчера по поводу малютки.
— Какой?
— По поводу де Лавальер.
— Ах, правда!
— Вам не противно поухаживать за этой девушкой?
— Этому мешает только одно.
— Что?
— Мое сердце занято другой, и я ровно ничего не чувствую к этой девушке.
— Ужасно, если занято сердце в то время, когда так нужна голова.
— Вы правы. Но вы видите, что по первому же вашему слову я все бросил. Однако вернемся к малютке. Какую пользу вы видите в том, чтобы я занялся ею?
— Видите ли, говорят, что король заинтересовался ею.
— А по-вашему, это неправда? Ведь вы все знаете.
— Я знаю, что король внезапно переменился; еще третьего дня он пылал страстью к принцессе, и несколько дней тому назад принц жаловался на это королеве-матери, происходили супружеские недоразумения и слышалось материнское брюзжание.
— Откуда вам все это известно?
— Известно доподлинно!
— Что же из этого следует?
— А то, что после этих недоразумений, этого брюзжания король перестал разговаривать с ее высочеством.
— А дальше?
— Дальше он занялся де Лавальер. Мадемуазель де Лавальер — фрейлина принцессы. Знаете ли вы, что в любви называют прикрытием?
— Конечно.
— Так вот: мадемуазель де Лавальер служит прикрытием принцессы. Воспользуйтесь этим положением вещей. Раненое самолюбие облегчит победу; тайны короля и принцессы будут в руках малютки. А вы знаете, что умный человек делает с тайнами?
— Но как подступиться к ней?
— И это спрашиваете у меня вы? — удивился Арамис.
— Спрашиваю, потому что у меня нет времени заниматься ею.
— Она бедна, скромна, вы создадите ей положение: покорит ли она себе короля как фаворитка или же просто приблизится к нему как поверенная его тайн, в ней вы приобретете верного человека.
— Хорошо, — сказал Фуке. — Что же мы предпримем в отношении этой малютки?
— А что вы предпринимали, когда хотели понравиться женщине, господин суперинтендант?
— Писал ей. Объяснялся в любви. Предлагал ей свои услуги и подписывался: Фуке.
— И ни одна не оказала сопротивления?
— Только одна, — отвечал Фуке. — Но четыре дня тому назад и она сдалась, как прочие.
— Не будете ли вы добры написать несколько слов? — улыбнулся Арамис, подавая Фуке перо.
Фуке взял его.
— Диктуйте, — попросил он. — Моя голова до того занята другими делами, что я не в состоянии сочинить двух строчек.
— Идет, — согласился Арамис, — пишите.
И он продиктовал:
«Сударыня, я видел вас, и вы не удивитесь, что я нашел вас красавицей. Но из-за отсутствия положения, достойного вас, вы только прозябаете при дворе.
Если у вас есть какое-нибудь честолюбие, то любовь порядочного человека послужит опорой для вашего ума и ваших прелестей.
Приношу мою любовь к вашим ногам; но так как даже самая благоговейная и окруженная тайнами любовь может скомпрометировать предмет своего культа, то такой достойной особе не подобает подвергать опасности свою репутацию, не получив взамен гарантий, обеспечивающих ее будущность.
Если вы соблаговолите ответить на мою любовь, то она сумеет доказать вам свою признательность, сделав вас навсегда свободной и независимой».
Написав это письмо, Фуке взглянул на Арамиса.
— Подпишите.
— Нужно ли это?
— Ваша подпись на письме стоит миллиона. Вы забываете это, дорогой суперинтендант.
Фуке подписался.
— С кем вы пошлете это письмо? — спросил Арамис.
— Со своим лакеем.
— Вы в нем уверены?
— Это испытанный человек. Впрочем, мы ведем игру без риска.
— Почему?
— Если правда то, что вы говорите об услугах этой малютки королю и принцессе, то король даст ей денег, сколько она пожелает.
— Так, значит, у короля есть деньги? — удивился Арамис.
— Да, нужно думать, потому что у меня он их не просит.
— Попросит, будьте спокойны!
— Больше того: я думал, что он заговорит со мной о празднике в Во.
— И что же?
— Он и не заикнулся.
— Еще заговорит.
— Вы считаете короля очень жестоким, дорогой д’Эрбле.
— Не его.
— Он молод, следовательно, он добр.
— Он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям; и господин Кольбер держит в своих грязных лапах его слабости и его страсти.
— Вот видите, вы боитесь его.
— Я не отрицаю.
— В таком случае я пропал.
— Как так?
— Я пользовался влиянием у короля только благодаря деньгам.
— Ну так что же?
— Я разорен.
— Нет!
— Как нет? Разве вы знаете мои дела лучше меня?
— Может быть.
— А что, если он потребует от меня этого праздника?
— Вы дадите его.
— А деньги?
— А разве их у вас когда-нибудь не хватало?
— О, если бы вы знали, какой ценой я достал последние деньги!
— Следующая сумма не будет стоить вам труда.
— Кто же мне ее даст?
— Я.
— Вы дадите мне шесть миллионов?.. Что вы говорите?.. Шесть миллионов?!
— Если понадобится, то и десять.
— Право, дорогой д’Эрбле, — сказал Фуке, — ваша самоуверенность пугает меня больше, чем гнев короля.
— Пустое!
— Кто же вы такой?
— Кажется, вы меня знаете.
— Я ошибаюсь в вас; чего же вы хотите?
— Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан господину Фуке, и хочу, чтобы господин Фуке был предан мне.
— О! — воскликнул Фуке, пожимая руку Арамиса. — Что касается моей преданности, то я весь ваш, но, дорогой д’Эрбле, вы заблуждаетесь.
— Относительно чего?
— Король никогда не будет мне предан.
— Мне кажется, я не говорил, что король будет вам предан.
— Напротив, вы только что это сказали.
— Я не говорил — теперешний король, я сказал — король вообще.
— Разве это не все равно?
— Нет, это совершенно разные вещи.
— Не понимаю.
— Сейчас поймете. Предположите, что королем у нас не Людовик Четырнадцатый.
— Не Людовик Четырнадцатый?
— Нет, а человек, всецело зависящий от вас.
— Это немыслимо.
— Даже обязанный вам троном.
— Вы с ума сошли! Только Людовик Четырнадцатый может сидеть на французском престоле; я не вижу никого, кто мог бы заменить его.
— А я вижу.
— Разве что принц, брат короля, — сказал Фуке, с беспокойством поглядывая на Арамиса. — Но принц…
— Нет, не принц.
— Как же вы хотите, чтобы принц не королевской крови… как вы хотите, чтобы принц, не имеющий никакого права…
— Мой король, или, вернее, ваш король, будет обладать всеми необходимыми качествами, поверьте мне.
— Берегитесь, господин д’Эрбле, берегитесь, вы повергаете меня в трепет, у меня голова идет кругом.
Арамис улыбнулся:
— Какой, однако, пустяк повергает вас в трепет.
— Повторяю, вы меня пугаете.
Арамис снова улыбнулся.
— Вы смеетесь? — спросил Фуке.
— Придет время, когда вы тоже посмеетесь. Теперь же я буду смеяться один.
— Объяснитесь.
— Когда придет время, я объясню вам все, будьте спокойны. Вы не апостол Петр, а я не Христос, однако я скажу вам: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
— Ах, боже мой, я сомневаюсь… я сомневаюсь, потому что ничего не вижу.
— Значит, вы слепы, в таком случае я обращусь к вам не как к апостолу Петру, а как к апостолу Павлу: «Наступит день, когда глаза твои откроются».
— О, как я хотел бы верить! — вздохнул Фуке.
— Вы не верите? А ведь я десять раз провел вас над бездной, в которую вы один низверглись бы; ведь из генерального прокурора вы сделались интендантом, из интенданта первым министром, из первого министра дворцовым мэром. Нет, нет, — прибавил Арамис со своей неизменной улыбкой, — нет, вы не можете видеть и, значит, не можете верить. — С этими словами Арамис встал, собираясь уходить.
— Одно только слово, — остановил его Фуке. — Вы никогда еще не говорили со мной так, не выказывали такой уверенности, или, лучше сказать, такой дерзости.
— Для того чтобы говорить громко, нужно иметь свободу голоса.
— И она у вас есть?
— Да.
— С каких же пор?
— Со вчерашнего дня.
— О, господин д’Эрбле, берегитесь, вы слишком самонадеянны!
— Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть?
— Так у вас есть власть?
— Я уже предлагал вам десять миллионов и снова предлагаю их.
Взволнованный Фуке тоже встал.
— Ничего не понимаю! Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других. Я, должно быть, с ума сошел, или мне все это послышалось.
— Нет, вы не сошли с ума, я действительно говорил все это.
— Как же вы могли сказать подобные вещи?
— Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и о возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов… земных.
— Так вы всемогущи? — вскричал Фуке.
— Я сказал вам это и снова повторяю, — отвечал Арамис дрожащим голосом; глаза его блестели.
Фуке в бессилии опустился в кресло и сжал голову руками. Арамис несколько мгновений смотрел на него, словно ангел человеческих судеб, взирающий на простого смертного.
— Прощайте, — произнес он наконец, — спите спокойно и отошлите письмо Лавальер. Завтра увидимся, не правда ли?
— Да, завтра, — отвечал Фуке, тряхнув головой, точно человек, приходящий в себя, — но где же мы увидимся?
— На прогулке короля, если вам угодно.
— Отлично.
И они расстались.
III. Гроза
На другой день с утра было пасмурно, сумрачно; так как в этот день была назначена прогулка короля, то всякий, открывая глаза, прежде всего устремлял взор на небо.
Над деревьями висел густой душный туман, и солнце, едва заметное сквозь тяжелую пелену, не в силах было рассеять его. Росы не было. Газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги. Птицы пели сдержаннее, чем обыкновенно, посреди неподвижной, точно застывшей листвы. Не слышно было шороха и шума, этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мертвая тишина.
Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы. Однако все распоряжения были сделаны, все было приготовлено, и, главное, Людовик очень рассчитывал на эту прогулку, которая сулила ему много заманчивого; поэтому он без колебания решил, что погода не имеет никакого значения и так как прогулка назначена, она должна состояться.
Впрочем, в некоторых излюбленных богом земных царствах бывают часы, когда кажется, будто воля земного короля имеет влияние на божественную волю. У Августа был Вергилий, говоривший: «Nocte puit tota redeunt spectacula mane»13Всю ночь идет дождь, утром возвращаются зрелища (лат.). . У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое, и бог, относившийся к нему почти так же милостиво, как Юпитер к Августу.
Людовик по обыкновению прослушал мессу, хотя, по правде говоря, воспоминание об одном создании сильно отвлекало его от мыслей о создателе. Во время службы он не раз принимался считать минуты, а потом секунды, отделявшие его от счастливого мгновения, когда должна была начаться прогулка, то есть того мгновения, когда на дороге должна была появиться принцесса с фрейлинами.
Само собой разумеется, что никто в замке не знал о ночном свидании короля с Лавальер. Может быть, болтливая Монтале и разгласила бы о нем, но на этот раз ее удержал Маликорн, предупредивший, что болтливость будет не в ее интересах.
Что же касается Людовика XIV, то он был так счастлив, что простил или почти простил принцессе ее вчерашнюю выходку. В самом деле, он должен был скорее быть довольным ею. Не будь этой злой шалости, он не получил бы письма от Лавальер; не будь этого письма, не было бы и аудиенции, а не будь этой аудиенции, он оставался бы в неизвестности. Его сердце было так переполнено блаженством, что там не оставалось места для досады, по крайней мере в данную минуту.
Итак, вместо того чтобы нахмуриться при виде невестки, Людовик решил обойтись с нею еще дружелюбнее и любезнее, чем обыкновенно. Однако лишь при одном условии — что она не заставит себя долго ждать.
Вот о чем думал Людовик, слушая мессу, вот что заставляло его забывать во время церковной службы о вещах, над которыми ему следовало размышлять в качестве христианнейшего короля и старшего сына церкви.
Но бог так снисходителен к юным заблуждениям, и все, что касается любви, даже любви греховной, отечески им поощряется, что, выйдя от мессы и подняв глаза к небу, Людовик увидел сквозь разорванные тучи уголок лазурного ковра, разостланного под ногами господними.
Он вернулся в замок и, так как прогулка была назначена в полдень, а часы показывали только десять, усердно принялся за работу с Кольбером и Лионом.
Во время работы Людовик медленно расхаживал от стола к окну, выходившему на павильон принцессы; он заметил поэтому на дворе г-на Фуке, которого почтительно приветствовали придворные, узнавшие о вчерашней аудиенции. Фуке с любезным и счастливым видом направился, в свою очередь, приветствовать короля.
Завидя Фуке, король инстинктивно обернулся к Кольберу. Кольбер улыбнулся и, казалось, тоже был весь полон любезности и ликования. Это приятное настроение охватило его после того, как один из его секретарей вручил ему бумажник, который он, не открывая, спрятал в глубокий карман своих штанов.
Но так как в радости Кольбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти; затем обратился к Лиону и Кольберу:
— Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол, я прочту бумаги со свежей головой.
И король ушел.
По знаку Людовика XIV Фуке быстро поднялся по лестнице. Арамис же, сопровождавший суперинтенданта, затерялся в толпе придворных, так что король даже не заметил его.
Король встретился с Фуке на верхних ступеньках лестницы.
— Государь, — сказал Фуке, видя приветливую улыбку на лице Людовика, — вот уже несколько дней ваше величество осыпает меня милостями. Теперь не юный король царствует во Франции, а юный бог, бог наслаждения, счастья и любви.
Король покраснел. Комплимент был очень лестным, но он слишком прямо бил в цель.
Король проводил Фуке в маленький салон, отделявший его рабочий кабинет от спальни.
— Знаете ли, почему я вас позвал? — спросил король, садясь на подоконник, чтобы не упустить из виду цветник, куда выходили вторые двери из павильона принцессы.
— Нет, государь… но уверен, что для чего-нибудь приятного, судя по милостивой улыбке вашего величества.
— Вам так кажется?
— Нет, государь, я вижу это.
— В таком случае вы ошибаетесь.
— Я, государь?
— Да, я призвал вас, напротив, чтобы поссориться с вами.
— Со мной, государь?
— С вами, и очень серьезно.
— Право, ваше величество пугаете меня… Но я готов слушать, уверенный в справедливости и доброте вашего величества.
— Говорят, господин Фуке, что вы затеваете большой праздник в Во?
Фуке улыбнулся, как больной, ощутивший первые симптомы забытой им и возвращающейся лихорадки.
— И вы не приглашаете меня? — продолжал король.
— Государь, — отвечал Фуке, — я не думал об этом празднике, и только вчера вечером один из моих друзей (Фуке подчеркнул эти слова) напомнил мне о нем.
— Но ведь вчера вечером я вас видел, и вы ничего не сказали мне об этом, господин Фуке.
— Государь, мог ли я надеяться, что ваше величество спуститесь со своих царственных высот и удостоите своим посещением мое жилище?
— Простите, господин Фуке, вы ни слова не говорили мне о вашем празднике.
— Повторяю, я ничего не сказал об этом празднике королю, во-первых, потому, что еще ничего не было решено, а во-вторых, я боялся отказа.
— Что же заставило вас бояться отказа, господин Фуке? Берегитесь, я решил до конца выспросить вас.
— Горячее желание получить согласие короля на мое приглашение.
— Хорошо, господин Фуке, я вижу, что нам очень легко прийти к соглашению. Вы горите желанием пригласить меня на свой праздник, а я горю желанием побывать на нем; начинайте же, я приму ваше приглашение.
— Как! Ваше величество соблаговолите принять его? — пролепетал суперинтендант.
— Право, — засмеялся король, — выходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь.
— Ваше величество удостаиваете меня величайшей чести! — вскричал Фуке. — Но я принужден повторить слова господина де Ла Вьевиля, обращенные к вашему деду, Генриху Четвертому: «Господи, я недостоин».
— А я отвечу, господин Фуке, что, если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения.
— Благодарю вас, ваше величество, благодарю, — сказал Фуке, поднимая голову при вести об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. — Но кто же предупредил ваше величество?
— Молва, господин Фуке; рассказывают чудеса о вас и о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам?
— Это сделает меня счастливейшим из смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылает ревностью к владельцу Во, у того найдется подарок, достойный короля.
— Итак, господин Фуке, устраивайте праздник и распахните настежь двери вашего дома.
— Я прошу ваше величество назначить день, — отвечал Фуке.
— Ровно через месяц.
— Вашему величеству не угодно выразить еще какое-нибудь желание?
— Нет, господин суперинтендант. Я хочу только почаще видеть вас подле себя.
— Государь, я имею честь принимать участие в прогулке вашего величества.
— Отлично; так я ухожу, господин Фуке, а вот и дамы собираются.
Произнеся эти слова, король с пылкостью влюбленного юноши побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер.
Со двора доносился топот лошадей и шум колес по усыпанному песком двору.
Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все придворные замерли. Король пошел прямо к молодой королеве. Что касается королевы-матери, то, чувствуя себя нездоровой, она не пожелала выезжать. Мария-Терезия села в карету вместе с принцессой и спросила у короля, куда ему будет угодно ехать.
Как раз в этот момент король увидел Лавальер, усталую и бледную после событий вчерашнего дня; она садилась в коляску с тремя подругами. Людовик рассеянно ответил королеве, что ему все равно, куда ехать, и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева.
Тогда королева приказала стремянным ехать в сторону Апремона.
Стремянные поскакали вперед.
Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы.
Небо прояснилось, однако в воздухе висела какая-то дымка, похожая на грязную кисею; в солнечных лучах кружились блестящие пылинки. Стояла удушливая жара. Но так как король, по-видимому, не обращал внимания на погоду, то она не тревожила и остальных, и кортеж по приказанию королевы направился к Апремону.
Толпа придворных шумела и была весела; видно было, что каждый хотел забыть язвительные речи, раздававшиеся накануне.
Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле, она видела короля у дверцы и, поскольку ей не приходило в голову, что он едет возле кареты ради королевы, надеялась, что ее рыцарь вернулся к ней.
Но через какие-нибудь четверть лье король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин, а затем и прочие экипажи, которые, видя, что король не трогается с места, хотели остановиться, в свою очередь. Но король подал знак продолжать путь.
Когда карета, где сидела Лавальер, поравнялась с ним, король приблизился к ней. Король поклонился дамам и собирался ехать рядом с каретой фрейлин, как он ехал рядом с каретой принцессы, как вдруг весь кортеж разом остановился. Очевидно, королева, обеспокоенная отсутствием короля, отдала приказ подождать его.
Король велел спросить, зачем она это сделала.
— Хочу пройтись пешком, — был ответ.
Она, очевидно, надеялась, что король, ехавший верхом подле кареты фрейлин, не решится идти пешком вместе с ними.
Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных.
Три красивые аллеи, длинные, тенистые и извилистые, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружево листвы виднелись кусочки голубого неба.
В глубине аллей то и дело пробегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову, затем мчались как стрелы, одним прыжком скрываясь в чаще леса; время от времени кролик-философ, сидя на задних лапках, потирал передними мордочку и нюхал воздух, чтобы узнать, не бежит ли собака за этими людьми, потревожившими его размышления, его обед и его любовные дела, и нет ли у кого-нибудь из них ружья под мышкой.
Вслед за королевой все общество вышло из карет.
Мария-Терезия оперлась на руку одной из фрейлин и, искоса взглянув на короля, который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед ее величеством шли двое стремянных и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу.
Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя г-на де Гиша, который поклонился ей и предложил ей свои услуги.
Принц, восхищенный своим вчерашним купанием, объявил, что идет к реке, и, отпустив де Гиша, остался в замке с шевалье де Лорреном и Маниканом. Он больше не испытывал и тени ревности. Поэтому его напрасно искали в кортеже; впрочем, принц редко принимал участие в общих развлечениях, так что его отсутствие скорее обрадовало, чем огорчило.
По примеру королевы и принцессы каждый устроился по своему вкусу. Как мы сказали, король находился возле Лавальер. Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтале и Тонне-Шарант тотчас же отошли в сторону, первая — по корыстным соображениям, а другая — из скромности, одна хотела сделать приятное королю, другая досадить ему.
В течение последнего получаса погода тоже приняла решение: висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе, потом, как бы увлекаемая течением воздуха, стала медленно и тяжело приближаться. Чувствовалась гроза; но так как король не замечал ее, то и никто не считал себя вправе ее заметить.
Поэтому прогулка продолжалась; иные, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогуливались у экипажей, в которых они надеялись укрыться в случае грозы. Но большая часть кортежа, видя, что король отважно углубился в лес с Лавальер, последовала за королем.
Заметив это, король взял Лавальер под руку и увлек на боковую тропинку, куда уже никто не посмел пойти за ним.
IV. Дождь
В том же направлении, куда пошли король и Лавальер, но только не по дорожке, а прямо через лес, шагали двое людей, совершенно равнодушных к надвигавшейся туче. Они шли, наклонив головы, точно обдумывая что-то серьезное. Они не видели ни де Гиша, ни принцессы, ни короля, ни Лавальер.
Вдруг молния озарила воздух, и раздался глухой и отдаленный раскат грома.
— Ах, — заметил один из спутников, поднимая голову, — начинается гроза, не вернуться ли нам в карету, дорогой д’Эрбле?
Арамис поднял глаза к небу и взглянул на тучу.
— О, — сказал он, — не стоит торопиться! — И, продолжая прерванный разговор, прибавил: — Итак, вы думаете, что наше вчерашнее письмо сейчас уже дошло по назначению?
— Я уверен в этом.
— Кому вы поручили доставить его?
— Моему испытанному слуге, как я уже имел честь сообщить вам.
— Он принес ответ?
— Я еще не видел его; вероятно, малютка дежурила у принцессы или одевалась и заставила его подождать. Нужно было уезжать, и мы уехали. Поэтому мне неизвестно, что там произошло.
— Вы видели короля перед отъездом?
— Да.
— Как вы его нашли?
— Безупречным и бесчестным, смотря по тому, говорил ли он правду или лицемерил.
— А праздник?
— Состоится через месяц.
— Он напросился?
— С такой навязчивостью, что я чувствую тут наущение Кольбера.
— Я тоже так думаю.
— Ночь не рассеяла ваших иллюзий?
— Каких иллюзий?
— Относительно помощи, которую вы можете оказать мне в этом случае?
— Нет, я всю ночь писал, и все распоряжения отданы.
— Праздник обойдется мне в несколько миллионов. Не забывайте этого.
— Я даю шесть… На всякий случай и вы раздобудьте два или три.
— Вы чародей, дорогой д’Эрбле!
Арамис улыбнулся.
— Но раз вы швыряетесь миллионами, — произнес Фуке с тревогой, — так почему же несколько дней тому назад вы не дали Безмо пятидесяти тысяч франков?
— Потому, что несколько дней тому назад я был беден, как Иов.
— А сегодня?
— Сегодня я богаче короля.
— Отлично, — кивнул Фуке, — я умею разбираться в людях. Я знаю, что вы не способны нарушить слово; я не хочу вырывать у вас вашу тайну; не будем больше говорить об этом.
В этот момент послышался глухой раскат, вскоре превратившийся в страшный удар грома.
— Ого! — воскликнул Фуке. — Я говорил вам!
— В таком случае вернемся к каретам.
— Не успеем, — возразил Фуке. — Вот уже дождь!
Действительно, небо, казалось, разверзлось, и крупные капли зашумели по вершинам деревьев.
— Ну, — сказал Арамис, — у нас есть время дойти до экипажа раньше, чем дождь проникнет сквозь листья.
— Лучше бы спрятаться в каком-нибудь гроте.
— Это верно, но есть ли тут грот? — спросил Арамис.
— Есть. В десяти шагах отсюда, — с улыбкой отвечал Фуке. — Да вот и он! — прибавил он, осмотревшись кругом.
— Как вы счастливы, что у вас такая хорошая память, — улыбнулся Арамис, в свою очередь. — А вы не боитесь, что ваш кучер, не видя нас, вообразит, будто мы пошли окольной дорогой, и поедет за придворными каретами?
— Нет, не боюсь; если я оставляю где-нибудь кучера и экипаж, то он двинется с места разве только по особому приказанию короля, да и то не наверное; к тому же, мне кажется, мы не одни зашли так далеко. Я слышу шаги и шум голосов.
И, произнося эти слова, Фуке оглянулся и раздвинул тростью густую листву, скрывавшую от них дорогу. Арамис одновременно с ним заглянул в образовавшееся отверстие.
— Женщина! — воскликнул Арамис.
— Мужчина! — воскликнул Фуке.
— Лавальер!
— Король!
— Ого! — сказал Арамис. — Разве и король знает ваш грот? Это меня не удивило бы; ведь у него существуют довольно налаженные отношения с нимфами Фонтенбло.
— Не беда! — отозвался Фуке. — Войдем туда; если король не знает его, будем наблюдать, что произойдет. Если же знает, то — так как в гроте два выхода, — когда он войдет через один, мы выйдем через другой.
— А далеко еще туда? — спросил Арамис. — Дождь уже начинает капать сквозь листья.
— Мы пришли.
Фуке приподнял ветви, и в скале можно было заметить углубление, совершенно закрытое вереском и плющом.
Фуке показал дорогу. Арамис пошел за ним.
Входя в грот, Арамис оглянулся.
— О, да они тоже идут в эту сторону!
— В таком случае уступим им место, — улыбнулся Фуке и потянул Арамиса за плащ. — Не думаю, однако, чтобы король знал мой грот.
— Действительно, — сказал Арамис, — они чего-то ищут; им надобно ветвистое дерево, вот и все.
Арамис не ошибался: король смотрел вверх, а не вокруг себя. Он держал Лавальер под руку: девушка скользила по влажной траве.
Людовик осмотрелся еще внимательнее и, заметив огромный развесистый дуб, увлек Лавальер к нему. Бедная девушка оглядывалась во все стороны; казалось, она и боялась и желала, чтобы их заметили, чтобы рядом был кто-то еще.
Король привел ее к стволу дерева, под которым было совершенно сухо, точно ливня и не было. Сам он стал возле нее, сняв шляпу. Через несколько мгновений капли дождя стали пробиваться сквозь листву и падать на голову короля, но он не замечал их.
— Государь, — прошептала Лавальер, показывая на шляпу.
Но король поклонился и наотрез отказался надеть ее.
— Как нельзя более удобный случай предложить им наше место, — сказал Фуке на ухо Арамису.
— Как нельзя более удобный случай подслушать и не проронить ни слова из того, что они будут говорить, — прошептал в ответ Арамис.
И оба замолчали; голос короля явственно доносился до них.
— Боже мой, мадемуазель, — говорил король, — я вижу, или, вернее, угадываю, ваше беспокойство; поверьте, я искренне жалею, что увел вас от остального общества и из-за меня вы можете промокнуть. Да вы уже промокли, может быть, вам холодно?
— Нет, государь.
— Но вы дрожите!
— Государь, я боюсь, что могут дурно истолковать мое отсутствие в тот момент, когда все, наверное, уже собрались.
— Я охотно предложил бы вам вернуться к каретам, мадемуазель, но взгляните и прислушайтесь, можно ли сейчас идти куда-нибудь?
Действительно, гром гремел, и дождь лил ручьями.
— К тому же, — продолжал король, — никто не посмеет сказать о вас дурное. Ведь вы с французским королем, то есть первым дворянином королевства.
— Конечно, государь, — отвечала Лавальер, — это великая честь для меня, но я боюсь не за себя.
— А за кого же?
— За вас, государь.
— За меня, мадемуазель? — с улыбкой сказал король. — Я не понимаю вас.
— Разве ваше величество забыли уже, что произошло вчера на вечере у ее высочества?
— Не говорите об этом, прошу вас, или лучше позвольте мне вспомнить, чтобы еще раз поблагодарить вас за ваше письмо и…
— Государь, — прервала его Лавальер, — дождь идет, а ваше величество без шляпы.
— Прошу вас не беспокоиться обо мне. Я боюсь, что вы промокнете.
— О, ведь я — крестьянка, — улыбнулась Лавальер. — Я привыкла бегать по луарским лугам и блуаским садам во всякую погоду. А что касается моего туалета, — прибавила она, глядя на свое скромное муслиновое платье, — то ваше величество видите, что за него мне нечего опасаться.
— Действительно, мадемуазель, я уже не раз замечал, что вы всем обязаны самой себе, а не туалету. Вы не кокетка. Я считаю это большим достоинством.
— Государь, не делайте меня лучше, чем я есть на самом деле. Скажите просто: вы не можете быть кокеткой.
— Почему?
— Потому, что я не богата, — с улыбкой отвечала Лавальер.
— Значит, вы сознаетесь, что любите красивые вещи? — с живостью воскликнул король.
— Государь, я нахожу красивым только то, что для меня доступно; все слишком высокое…
— Для вас безразлично?
— Мне чуждо, так как недостижимо.
— А я нахожу, мадемуазель, — сказал король, — что вы не занимаете при моем дворе подобающего вам положения. Я, несомненно, слишком мало осведомлен о заслугах вашей семьи. Мой дядя отнесся слишком пренебрежительно к вашим родственникам.
— О нет, государь! Его королевское высочество герцог Орлеанский всегда был благосклонен к господину де Сен-Реми, моему отчиму. Услуги были скромные, и мы были за них вполне вознаграждены. Не всем дано счастье с блеском служить королю. Я, конечно, не сомневаюсь, что если бы представился случай, то мои родственники не остановились бы ни перед чем, но нам не выпало этого счастья.
— Короли должны исправлять несправедливости, мадемуазель, — проговорил король, — и я охотно беру на себя эту обязанность по отношению к вам.
— Нет, государь, — с живостью воскликнула Лавальер, — оставьте, пожалуйста, все как есть.
— Как, мадемуазель? Вы отказываетесь от того, что я должен, что я хочу сделать для вас?
— Все, чего я желала, государь, было для меня сделано в тот день, когда я удостоилась чести быть принятой ко двору принцессы.
— Но если вы отказываетесь для себя, примите по крайней мере для ваших родственников знак моей признательности.
— Государь, ваши великодушные намерения ослепляют и страшат меня, ибо если ваше величество по своей благосклонности сделаете что-нибудь для моих родственников, то у нас появятся завистники, а у вашего величества — враги. Оставьте меня, государь, в безвестности. Пусть мои чувства к вам останутся светлыми и бескорыстными.
— Вот удивительные речи! — воскликнул король.
— Справедливо, — шепнул Арамис на ухо Фуке. — Вряд ли король привык к ним.
— А что, если и на мою записку она ответит в таком же роде? — спросил Фуке.
— Не будем забегать вперед, дождемся конца, — возразил Арамис.
— К тому же, дорогой д’Эрбле, — прибавил суперинтендант, мало расположенный верить в искренность чувств, выраженных Лавальер, — иногда бывает очень выгодно казаться бескорыстной в глазах короля.
— Это самое думал и я, — отвечал Арамис. — Послушаем, что будет дальше.
Король еще ближе придвинулся к Лавальер и поднял над ней свою шляпу, так как дождь все больше протекал сквозь листву.
Лавальер взглянула своими прекрасными голубыми глазами на защищавшую ее королевскую шляпу, покачала головой и вздохнула.
— Боже мой! — сказал король. — Какая печальная мысль может проникнуть в ваше сердце, когда я защищаю его своим собственным?
— Я отвечу вам, государь. Я уже касалась этого вопроса, такого щекотливого для девушки моих лет. Но ваше величество приказали мне замолчать. Государь, ваше величество не принадлежите себе; государь, вы женаты; чувство, которое удалило бы ваше величество от королевы и увлекло бы ко мне, было бы источником глубокого огорчения для королевы.
Король попытался перебить Лавальер, но та с умоляющим жестом продолжала:
— Королева нежно любит ваше величество, королева следит за каждым шагом вашего величества, удаляющим вас от нее. Ей выпало счастье встретить прекрасного супруга, и она со слезами молит небо сохранить ей его; она ревнива к малейшему движению вашего сердца.
Король снова хотел заговорить, но Лавальер еще раз решилась остановить его.
— Разве не преступление, — спросила она, — при виде такой нежной и благородной любви давать королеве повод для ревности? О, простите мне это слово, государь. Боже мой, я знаю, невозможно, или, вернее, должно быть невозможно, чтобы величайшая в мире королева ревновала к такой ничтожной девушке, как я. Но королева — женщина, и, как у всякой женщины, сердце ее может открыться для подозрений, которые могут быть внушены ядовитыми речами злых людей. Во имя неба, государь, не уделяйте мне так много внимания! Я этого не заслуживаю.
— Неужели, мадемуазель, — вскричал король, — вы не понимаете, что, говоря таким образом, вы превращаете мое уважение к вам в преклонение?
— Государь, вы приписываете моим словам значение, которого они не имеют; вы считаете меня лучше, чем я есть. Смилуйтесь надо мной, государь! Если бы я не знала, что король — самый великодушный человек во всей Франции, то подумала бы, что ваше величество хотите посмеяться надо мной…
— Конечно, вы этого не думаете, я в этом уверен! — воскликнул Людовик.
— Государь, я буду принуждена думать так, если ваше величество будет говорить со мной таким языком.
— Значит, я самый несчастный король во всем христианском мире, — заключил Людовик с непритворной грустью, — если не могу внушить доверие к своим словам женщине, которую я люблю больше всего на свете и которая разбивает мне сердце, отказываясь верить в мою любовь.
— Государь, — сказала Лавальер, тихонько отстраняясь от короля, который все ближе подвигался к ней, — гроза как будто утихает, и дождь перестает.
Но в это самое мгновение, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявлявшим слишком большую готовность идти навстречу желаниям короля, произносила эти слова, гроза позаботилась опровергнуть их; синеватая молния озарила лес фантастическим блеском, и удар грома, напоминавший артиллерийский залп, раздался над самой головой короля и Лавальер, как будто его привлекла высота укрывавшего их дуба.
Молодая девушка испуганно вскрикнула.
Король одной рукой прижал ее к сердцу, а другую протянул над ее головой, точно защищая ее от удара молнии.
Несколько мгновений стояла тишина, во время которой эта пара, очаровательная, как все молодое и исполненное любви, замерла в неподвижности. Фуке и Арамис тоже застыли, созерцая Лавальер и короля.
— О государь! — прошептала Лавальер. — Вы слышите?
И она уронила голову на его плечо.
— Да, — сказал король, — вы видите, что гроза не утихает.
— Государь, это — предупреждение.
Король улыбнулся.
— Государь, это голос бога, грозящего нам карой.
— Пусть, — отвечал король. — Я принимаю этот удар грома за предупреждение и даже за угрозу, если через пять минут он повторится с такой же силой; в противном же случае позвольте мне думать, что гроза — только гроза, и ничего больше.
И король поднял голову, точно вопрошая небо.
Но небо как бы вступило в заговор с Людовиком; в течение пяти минут после удара, напугавшего влюбленных, не слышно было ни одного раската, а когда гром загремел снова, то звук его был гораздо глуше, как будто в течение этих пяти минут гроза, подстегиваемая порывами ветра, унеслась за целых десять лье.
— Что же, Луиза, — прошептал король, — будете вы еще пугать меня гневом небес? Если вы уж непременно хотите видеть в молнии предзнаменование, то неужели вы все еще считаете, что она — предзнаменование несчастья?
Молодая девушка подняла голову; в это время дождь хлынул сквозь листья и заструился по лицу короля.
— О государь, государь! — воскликнула она с выражением непреодолимого страха, взволновавшего Людовика до глубины души. — Неужели это ради меня король остается с непокрытой головой под проливным дождем? Ведь я — такое ничтожество!
— Вы — божество, — отвечал король, — обратившее в бегство грозу. Вы — богиня, возвращающая солнце и тепло.
Действительно, в этот момент блеснул солнечный луч, и падавшие с деревьев капли засверкали, как брильянты.
— Государь, — сказала почти побежденная Лавальер, делая над собой последнее усилие. — Государь, еще раз прошу вас, подумайте о тех неприятностях, которые вашему величеству придется перенести из-за меня. Боже мой, в эту минуту вас ищут, вас зовут. Королева, наверное, беспокоится, а принцесса… о принцесса!.. — почти с ужасом вскричала молодая девушка.
Это слово произвело некоторое впечатление на короля; он вздрогнул и отпустил Лавальер, которую до тех пор держал в своих объятиях.
— Принцесса, сказали вы?
— Да, принцесса; принцесса тоже ревнует, — многозначительно заметила Лавальер.
И ее робкие и целомудренно опущенные глаза решились вопросительно взглянуть на короля.
— Но принцесса, мне кажется, — возразил Людовик, делая усилие над собой, — не имеет никакого права…
— Увы! — прошептала Лавальер.
— Неужели, — спросил король почти с упреком, — и вы считаете, что сестра вправе ревновать брата?
— Государь, я не смею заглядывать в тайники вашего сердца.
— Неужели вы верите этому? — воскликнул король.
— Да, государь, я думаю, что принцесса ревнует, — твердо сказала Лавальер.
— Боже мой, — забеспокоился король, — неужели ее обращение с вами дает повод для таких подозрений? Принцесса обошлась с вами дурно, и вы приписываете это ревности?
— Нет, государь, я так мало значу в ее глазах!
— О, если так!.. — энергично произнес Людовик.
— Государь, — перебила Лавальер, — дождь перестал, и, кажется, сюда идут.
И, позабыв всякий этикет, она схватила короля за руку.
— Так что же, мадемуазель, — отвечал король, — пусть идут. Кто осмелится найти что-нибудь дурное в том, что я был в обществе мадемуазель де Лавальер?
— Помилуйте, государь! Все найдут странным, что вы так вымокли, что вы пожертвовали собой ради меня.
— Я только исполнил свой долг дворянина, — вздохнул Людовик, — и горе тому, кто забудется и станет осуждать поведение своего короля.
Действительно, в этот момент показалось несколько придворных, которые с любопытством осматривали лес; заметив короля и Лавальер, они, по-видимому, нашли то, что искали.
Это были посланные королевы и принцессы; они сняли шляпы в знак того, что увидели его величество.
Но, несмотря на смущение Лавальер, Людовик по-прежнему стоял в своей нежно-почтительной позе. Затем, когда все придворные собрались на аллее, когда все увидели знаки почтения, которые король оказывал молодой девушке, оставаясь перед ней с обнаженной головой во время грозы, Людовик предложил ей руку, ответил кивком головы на почтительные поклоны придворных и, все так же держа шляпу в руке, проводил ее до кареты.
Гроза прошла, но дождь продолжался, и придворные дамы, которым этикет не позволял сесть в карету раньше короля, стояли без плащей и накидок под этим ливнем, от которого король заботливо защищал своей шляпой самую незначительную среди них.
Как и все остальные, королева и принцесса должны были созерцать эту преувеличенную любезность короля; принцесса до такой степени была поражена, что, забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила:
— Поглядите, вы только поглядите!
Королева закрыла глаза, точно у нее закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней.
Король вскочил на лошадь и, не оказывая предпочтения ни одной из карет, поскакал вперед. Он вернулся в Фонтенбло, бросив поводья, задумчивый, весь поглощенный своими мыслями.
Когда толпа удалилась и шум карет стал затихать, Арамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они до аллеи. Арамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса.
— Господин Фуке, — сказал он, удостоверившись, что они одни, — нужно во что бы то ни стало получить обратно ваше письмо к Лавальер.
— Нет ничего проще, — отвечал Фуке, — если слуга еще не передал его.
— Это необходимо во всех случаях, понимаете?
— Да, король любит эту девушку. Не правда ли?
— Очень. Но еще хуже, что и эта девушка страстно любит короля.
— Значит, мы меняем тактику?
— Без всякого сомнения, нельзя терять времени. Вам нужно увидеть Лавальер и, не делая попыток добиться ее благосклонности, что теперь невозможно, заявить ей, что вы — самый преданный ее друг и самый покорный слуга.
— Я так и сделаю, — отвечал Фуке, — и без всякого неудовольствия; у этой девушки, мне кажется, золотое сердце.
— А может быть, много ловкости, — раздумывал вслух Арамис, — но тогда дружба с нею еще нужней.
Помолчав немного, он прибавил:
— Или я ошибаюсь, или эта малютка сведет с ума короля. Ну, скорей карету — и в замок!
V. Тоби
Через два часа после того, как карета суперинтенданта покатилась в Фонтенбло со скоростью облаков, гонимых последними порывами бури, Лавальер сидела у себя в комнате в простом муслиновом пеньюаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком.
Вдруг открылась дверь, и лакей доложил, что г-н Фуке просит позволения засвидетельствовать ей свое почтение.
Она два раза переспросила лакея; бедная девушка знала только имя г-на Фуке и никак не могла понять, что у нее может быть общего с главноуправляющим финансами.
Однако так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то Лавальер взглянула в зеркало, поправила локоны и приказала пригласить его в комнату.
Но Лавальер не могла подавить некоторого волнения. Визит суперинтенданта не был заурядным явлением в жизни фрейлины. Фуке, славившийся своей щедростью, галантностью и любезным обращением с дамами, чаще получал приглашения, чем испрашивал аудиенций. Во многие дома посещения суперинтенданта приносили богатство; во многих сердцах они зарождали любовь.
Фуке почтительно вошел к Лавальер и представился ей с тем изяществом, которое было отличительной чертой выдающихся людей той эпохи, а в настоящее время стало совершенно непонятным, даже на портретах, где эти люди изображены как живые.
На церемонное приветствие Фуке Лавальер ответила реверансом пансионерки и предложила суперинтенданту сесть.
Но Фуке с поклоном сказал ей:
— Я не сяду, мадемуазель, пока вы не простите меня.
— За что же, боже мой?
Фуке устремил на лицо молодой девушки свой проницательный взгляд, но мог увидеть на нем только самое простодушное изумление.
— Я вижу, сударыня, что вы так же великодушны, как и умны, и читаю в ваших глазах испрашиваемое мной прощение. Но мне мало прощения на словах, предупреждаю вас; мне нужно, чтобы меня простили ваше сердце и ум.
— Клянусь вам, сударь, — растерялась Лавальер, — я вас совершенно не понимаю.
— Это новое проявление вашей деликатности пленяет меня, — отвечал Фуке, — я вижу, что вы не хотите заставить меня краснеть.
— Краснеть? Краснеть передо мной? Но скажите же, почему вам краснеть?
— Неужели я ошибаюсь, — спросил Фуке, — и мой поступок, к моему счастью, не оскорбил вас?
Лавальер пожала плечами.
— Положительно, сударь, вы говорите загадками, и я, по-видимому, слишком невежественна, чтобы понимать их.
— Хорошо, — согласился Фуке, — не буду настаивать. Только, умоляю вас, скажите мне, что я могу рассчитывать на ваше полное и безусловное прощение.
— Сударь, — сказала Лавальер уже с некоторым нетерпением, — я могу ответить вам только одно и надеюсь, что мой ответ удовлетворит вас. Если бы я знала вашу вину передо мной, я простила бы вас. Тем более вы поймете, что, не зная этой вины…
Фуке закусил губы, как это делал обыкновенно Арамис.
— Значит, — продолжал он, — я могу надеяться, что, невзирая на случившееся, мы останемся в добрых отношениях и что вы любезно соглашаетесь верить в мою почтительную дружбу.
Лавальер показалось, что она начинает понимать.
«О, — подумала она, — я не могла бы поверить, что господин Фуке с такой жадностью будет искать источников новоявленной благосклонности».
И сказала вслух:
— В вашу дружбу, сударь? Вы мне предлагаете вашу дружбу? Но, право, это для меня большая честь, и вы слишком любезны.
— Я знаю, сударыня, — отвечал Фуке, — что дружба господина может показаться более блестящей и более желательной, чем дружба слуги; но могу вас заверить, что и слуга окажется таким же преданным, таким же верным и совершенно бескорыстным.
Лавальер поклонилась; действительно, в голосе суперинтенданта звучала большая искренность и неподдельная преданность. Она протянула Фуке руку.
— Я вам верю, — улыбнулась она.
Фуке крепко пожал руку девушки.
— В таком случае, — прибавил он, — вы сейчас же отдадите мне это несчастное письмо.
— Какое письмо? — спросила Лавальер.
Фуке еще раз устремил на нее свой испытующий взгляд. То же наивное, то же простодушное выражение лица.
— После этого отрицания, сударыня, я принужден признать, что вы деликатнейшее существо, и сам я не был бы честным человеком, если бы мог бояться чего-нибудь со стороны такой великодушной девушки, как вы.
— Право, господин Фуке, — отвечала Лавальер, — с глубоким сожалением я принуждена повторить вам, что решительно ничего не понимаю.
— Значит, вы можете дать слово, что не получали от меня никакого письма?
— Даю вам слово, нет! — твердо сказала Лавальер.
— Хорошо. Этого с меня достаточно, сударыня; позвольте мне повторить уверение в моей преданности и в моем глубочайшем почтении.
Фуке поклонился и отправился домой, где его ждал Арамис, оставив Лавальер в полном недоумении.
— Ну что? — спросил Арамис, нетерпеливо ожидавший возвращения Фуке. — Как вам понравилась фаворитка?
— Восхищен! — отвечал Фуке. — Это умная, сердечная женщина.
— Она не рассердилась?
— Ничуть; по-видимому, она просто ничего не поняла.
— Не поняла?
— Да, не поняла, что я писал ей.
— А между тем нужно было заставить ее понять вас, нужно, чтобы она возвратила письмо; я надеюсь, она отдала вам его?
— И не подумала.
— Так вы по крайней мере удостоверились, что она сожгла его?
— Дорогой д’Эрбле, вот уже целый час, как я играю в недоговоренные фразы, и мне порядком надоела эта игра, хотя она очень занимательна. Поймите же: малютка притворилась, будто совершенно не понимает меня; она отрицала получение письма, а поэтому она не могла ни отдать его, ни сжечь.
— Что вы говорите? — встревожился Арамис.
— Говорю, что она клялась и божилась, что не получала никакого письма.
— О, это слишком! И вы не настаивали?
— Напротив, я был настойчив до неприличия.
— И она все отрицала?
— Да.
— И ни разу не выдала себя?
— Ни разу.
— Следовательно, дорогой мой, вы оставили письмо в ее руках?
— Пришлось, черт возьми!
— О, это большая ошибка!
— Что же бы вы сделали на моем месте?
— Конечно, невозможно было принудить ее, но это тревожит меня: подобное письмо не может оставаться у нее.
— Эта девушка так великодушна.
— Если бы она была действительно великодушна, она отдала бы вам письмо.
— Повторяю, она великодушна; я видел это по ее глазам, я человек опытный.
— Значит, вы считаете ее искренней?
— От всего сердца.
— В таком случае мне кажется, что мы действительно ошибаемся.
— Как так?
— Мне кажется, что она действительно не получила письма.
— Как так? И вы предполагаете?..
— Я предполагаю, что, по неизвестным нам соображениям, ваш человек не отдал ей письма.
Фуке позвонил. Вошел лакей.
— Позовите Тоби, — приказал суперинтендант.
Через несколько мгновений появился слуга, сутулый человек с бегающими глазами, с тонкими губами и короткими руками.
Арамис вперил в него пронизывающий взгляд:
— Позвольте, я сам расспрошу его.
— Пожалуйста, — отвечал Фуке.
Арамис хотел было заговорить с лакеем, но остановился.
— Нет, — сказал он, — он увидит, что мы придаем слишком большое значение его ответу; допросите его сами; а я сделаю вид, что пишу письмо.
Арамис действительно сел к столу, спиной к лакею, но внимательно наблюдал за каждым его движением и каждым его взглядом в висевшем напротив зеркале.
— Подойди сюда, Тоби, — начал Фуке.
Лакей приблизился довольно твердыми шагами.
— Как ты исполнил мое поручение? — спросил Фуке.
— Как всегда, ваша милость, — отвечал слуга.
— Расскажи.
— Я вошел к мадемуазель де Лавальер, которая была у обедни, и положил записку на туалетный стол. Ведь так вы приказали мне?
— Верно, и это все?
— Все, ваша милость.
— В комнате никого не было?
— Никого.
— А ты спрятался, как я тебе приказал?
— Да.
— И она вернулась?
— Через десять минут.
— И никто не мог взять письма?
— Никто, потому что никто не входил в комнату.
— Снаружи, а изнутри?
— Оттуда, где я был спрятан, видна была вся комната.
— Послушай, — сказал Фуке, пристально глядя на лакея, — если это письмо попало не по адресу, то лучше откровенно сознайся мне в этом, потому что, если тут произошла ошибка, ты поплатишься за нее головой.
Тоби вздрогнул, но тотчас овладел собой.
— Ваша милость, — повторил он, — я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу у вас только полчаса, чтобы доказать, что письмо в руках мадемуазель де Лавальер, или же принести его вам обратно.
Арамис с любопытством наблюдал за лакеем.
Фуке был доверчив; двадцать лет этот лакей усердно служил ему.
— Хорошо, — согласился он, — ступай, но принеси мне доказательство, что ты говорил правду.
Лакей ушел.
— Ну, что вы скажете? — спросил Фуке у Арамиса.
— Я скажу, что вам во что бы то ни стало надо узнать истину. Письмо или дошло, или не дошло до Лавальер; в первом случае нужно, чтобы Лавальер возвратила вам его или же сожгла в вашем присутствии; во втором — необходимо раздобыть письмо, хотя бы это стоило нам миллиона. Ведь вы согласны со мной?
— Да; однако, дорогой епископ, я считаю, что вы сгущаете краски.
— Слепец вы, слепец! — прошептал Арамис.
— Лавальер, которую вы принимаете за тонкого дипломата, просто-напросто кокетка, которая надеется, что я буду продолжать увиваться за ней, раз я уже начал. Теперь, убедившись в любви короля, она рассчитывает с помощью письма держать меня в руках. Это так естественно.
Арамис покачал головой.
— Вы не согласны? — спросил Фуке.
— Она не кокетка, — отвечал Арамис.
— Позвольте вам заметить…
— Я отлично знаю кокеток!
— Друг мой, друг мой!
— Вы хотите сказать, что далеко то время, когда я изучал их? Но женщины не меняются.
— Зато мужчины меняются, и теперь вы стали более подозрительны, чем были прежде. — Рассмеявшись, Фуке продолжал: — Если Лавальер пожелает уделить мне одну треть своей любви и королю две трети, найдете вы приемлемым такое положение?
Арамис нетерпеливо поднялся.
— Лавальер, — сказал он, — никогда не любила и никогда не полюбит никого, кроме короля.
— Но ответьте мне наконец, что бы вы сделали на моем месте.
— Прежде всего я не выпускал бы из дому вашего слугу.
— Тоби?
— Да, Тоби; это предатель!
— Что вы?
— Я уверен в этом. Я держал бы его взаперти, пока он не признался бы мне.
— Еще не поздно; позовем его, и вы допросите его сами.
— Прекрасно.
— Но уверяю вас, что это будет напрасно. Он служит у меня уже двадцать лет и ни разу ничего не перепутал, а между тем, — прибавил Фуке со смехом, — перепутать бывало так легко.
— Все же позовите его. Мне сдается, сегодня утром я видел, как этот человек о чем-то совещался с одним из слуг господина Кольбера.
— Где?
— Возле конюшни.
— Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана.
— Однако повторяю, я видел его, и когда он вошел, его физиономия показалась мне знакомой.
— Почему же вы ничего не сказали, когда он был здесь?
— Потому что только сию минуту я припомнил.
— Вы меня пугаете, — сказал Фуке и позвонил.
— Лишь бы мы не опоздали! — прошептал Арамис.
Фуке позвонил вторично. Явился камердинер.
— Тоби! — крикнул Фуке. — Позовите Тоби!
Слуга удалился.
— Вы предоставляете мне полную свободу действий, не правда ли?
— Полнейшую.
— Я могу пустить в ход все средства, чтобы узнать истину?
— Все.
— Даже запугивание?
— Я уступаю вам обязанности генерального прокурора.
Прошло десять минут. Тоби не появлялся. Выведенный из терпения Фуке снова позвонил.
— Тоби! — крикнул он.
— Его ищут, ваша милость, — поклонился камердинер.
— Он где-нибудь близко, я никуда не посылал его.
— Я пойду поищу его, ваша милость.
И камердинер снова удалился. Арамис в молчании нетерпеливо прогуливался по комнате.
Фуке зазвонил так, что мог бы разбудить мертвого.
Вернулся камердинер; он весь дрожал.
— Ваша милость ошибается, — сказал он, не дожидаясь вопроса Фуке. — Ваша милость, вероятно, дали какое-нибудь поручение Тоби, потому что он пришел на конюшню, вывел лучшего скакуна, оседлал его и уехал.
— Уехал! — вскричал Фуке. — Скачите, поймайте его.
— Полно, — Арамис взял его за руку, — успокойтесь, дело сделано!
— Сделано?
— Конечно, я был в этом уверен. Теперь не будем поднимать тревоги; разберем лучше последствия случившегося и постараемся принять меры.
— В конце концов, — вздохнул Фуке, — беда не велика.
— Вы думаете?
— Конечно. Всякому мужчине позволительно писать любовное письмо к женщине.
— Мужчине — да, подданному — нет; особенно когда женщину любит король.
— Друг мой, еще неделю назад король не любил Лавальер; он не любил ее даже вчера, а письмо написано вчера; и я не мог догадаться о любви короля, когда ее еще не было.
— Допустим, — согласился Арамис. — Но письмо, к несчастью, не помечено числом. Вот что особенно мучит меня. Ах, если бы на нем стояло вчерашнее число, я бы ни капли не беспокоился за вас!
Фуке пожал плечами:
— Разве я под опекой и король властвует над моим умом и моими желаниями?
— Вы правы, — согласился Арамис, — не будем придавать делу слишком большого значения. И потом… если нам что-либо грозит, мы сумеем защититься.
— Грозит? — удивился Фуке. — Неужели этот муравьиный укус вы называете угрозой, которая может подвергнуть опасности мое состояние и мою жизнь?
— Ах, господин Фуке, муравьиный укус может сразить и великана, если муравей ядовит!
— Разве ваше всемогущество, о котором вы недавно говорили, уже рухнуло?
— Я всемогущ, но не бессмертен.
— Однако, мне кажется, важнее всего отыскать Тоби. Не правда ли?
— О, его вам не поймать, — сказал Арамис, — и если он был вам дорог, наденьте траур!
— Но ведь он где-нибудь да находится?
— Вы правы; предоставьте мне свободу действия, — отвечал Арамис.
VI. Четыре шанса принцессы
Королева-мать пригласила к себе молодую королеву.
Больная Анна Австрийская дурнела и старилась с поразительной быстротой, как это всегда бывает с женщинами, которые провели бурную молодость. К физическим страданиями присоединялись страдания от мысли, что рядом с юной красотой, юным умом и юной властью она служит только живым напоминанием прошлого.
Советы врача и свидетельства зеркала меньше огорчали ее, чем поведение придворных, которые, подобно крысам, покидали трюм корабля, куда начинала проникать вода.
Анна Австрийская была недовольна свиданиями со старшим сыном. Бывало, король, чувства которого были скорее показные, чем искренние, заходил к матери на один час утром и на один вечером. Но с тех пор, как он взял в свои руки управление государством, утренние и вечерние визиты были сокращены до получаса; мало-помалу утренние визиты совсем прекратились.
По утрам мать и сын встречались за мессой; вечерние визиты были заменены свиданиями у короля или у принцессы, куда королева ходила довольно охотно ради сыновей. Вследствие этого принцесса приобрела огромное влияние при дворе, и у нее собиралось самое блестящее общество.
Анна Австрийская чувствовала это.
Больная, принужденная часто сидеть дома, она приходила в отчаяние, предвидя, что скоро ей придется проводить время в унылом и безнадежном одиночестве.
С ужасом вспоминала она то одиночество, на которое обрекал ее когда-то кардинал Ришелье, те невыносимые вечера, в течение которых, однако, ей служили утешением молодость и красота, всегда сопровождаемые надеждой.
И вот она решила перевести двор к себе и привлечь принцессу с ее блестящей свитой в темные и унылые комнаты, где вдова французского короля и мать французского короля обречена была утешать всегда заплаканную от преждевременного вдовства супругу французского короля.
Анна задумалась.
В течение своей жизни она много интриговала. В хорошие времена, когда в ее юной головке рождались счастливые идеи, подле нее была подруга, умевшая подстрекать ее честолюбие и ее любовь, подруга, еще более пылкая и честолюбивая, чем она сама, искренне ее любившая, что так редко бывает при дворе, и теперь удаленная от нее по мелочным соображениям.
Но с тех пор в течение многих лет кто мог похвалиться, что дал хороший совет королеве, кроме г-жи де Мотвиль и Молены, испанки-кормилицы, которая в качестве соотечественницы была поверенной королевы? Кто из теперешней молодежи мог напомнить ей прошлое, которым она только и жила?
Анна Австрийская подумала о г-же де Шеврез, которая отправилась в изгнание скорее добровольно, чем по приказанию короля, а затем умерла женой безвестного дворянина. Она задала себе вопрос, что посоветовала бы ей г-жа де Шеврез в подобных обстоятельствах, и королеве показалось, что эта хитрая, опытная и умная женщина отвечала ей своим ироническим голосом:
«Все эти молодые люди бедны и жадны. Им нужны золото и доходы, чтобы предаваться удовольствиям; привлеките их к себе подачками».
Анна Австрийская решила последовать этому совету. Кошелек у нее был полный; она располагала большими суммами, собранными для нее Мазарини и хранившимися в надежном месте. Ни у кого во Франции не было таких красивых драгоценных камней, особенно такого крупного жемчуга, при виде которого король каждый раз вздыхал, потому что жемчуг на его короне казался мелким зерном по сравнению с ним.
Анна Австрийская не обладала больше ни красотой, ни очарованием. Зато она была богата и привлекала лиц, посещавших ее, либо надеждой на крупный карточный выигрыш, либо подачками, либо, наконец, доходными местами, которые она очень умело выпрашивала у короля, чтобы поддержать свое влияние.
В первую очередь она испытала это средство на принцессе, которую ей больше всего хотелось привлечь к себе. Несмотря на всю свою гордость и самоуверенность, принцесса попалась в расставленные ей сети. Богатея понемногу от подарков, она вошла во вкус и с удовольствием получала преждевременное наследство.
То же средство Анна Австрийская употребила по отношению к принцу и самому королю. Она завела у себя лотереи.
Одна из таких лотерей была назначена у королевы-матери в день, до которого мы довели наш рассказ. Анна Австрийская разыгрывала два прекрасных брильянтовых браслета очень тонкой работы. В них были вставлены старинные камеи большой ценности; сами брильянты были не очень дороги, но оригинальность и изящество работы были таковы, что при дворе многие желали не только получить эти браслеты, но просто увидеть их на руках королевы, так что в дни, когда она надевала их, считалось особой милостью позволение любоваться ими, целуя ее руку.
По этому поводу придворные придумали галантный каламбур, говоря, что браслеты были бы бесценными, если бы, на свое несчастье, не красовались на руках королевы. Этому каламбуру была оказана большая честь; он был переведен на все европейские языки, и на эту тему ходило больше тысячи французских и латинских двустиший.
День, когда Анна Австрийская разыгрывала брильянты в лотерею, был для нее решительным: двое суток король не показывался у матери. Принцесса дулась после сцены с дриадами и наядами. Король, правда, не сердился, но могущественное чувство уносило его вдаль от придворных бурь и развлечений.
Анна Австрийская произвела диверсию, объявив на следующий вечер знаменитую лотерею. С этой целью она повидалась с молодой королевой, которую, как мы сказали, утром вызвала к себе.
— Дочь моя, — сказала Анна, — сообщаю вам приятную новость. Король самым нежным образом говорил мне о вас. Король молод, и его легко увлечь. Но до тех пор, пока вы будете возле меня, он не решится оставить свою супругу, к которой к тому же он сильно привязан. Сегодня вечером у меня лотерея. Вы придете?
— Мне сказали, — с робким упреком заметила молодая королева, — что ваше величество разыгрываете в лотерею свои прекрасные браслеты. Но ведь они такая редкость, что нам не следовало бы выпускать их из королевской сокровищницы, хотя бы потому, что они принадлежали вам.
— Дитя мое, — сказала Анна Австрийская, отлично понимая молодую королеву, желавшую получить эти браслеты для себя, — мне во что бы то ни стало нужно заманить к себе принцессу.
— Принцессу? — спросила, краснея, молодая королева.
— Ну да! Разве не лучше видеть у себя соперницу, чтобы наблюдать и управлять ею, чем знать, что король у нее, всегда готовый ухаживать за ней. Эта лотерея — приманка, которой я пользуюсь с этой целью; неужели вы порицаете меня?
— Нет, нет, — вскричала Мария-Терезия и в порыве ребяческой радости, свойственной испанкам, с восторгом захлопала в ладоши.
— И вы не жалеете, дорогая, что я не подарила вам браслеты, как сначала хотела сделать?
— О нет, нет, дорогая матушка!
— Итак, дитя мое, принарядитесь, чтобы наш вечер вышел как можно более блестящим. Чем веселее будете вы, чем вы будете очаровательнее, тем больше вы затмите остальных женщин своим блеском.
Мария-Терезия ушла в полном восторге. Через час Анна Австрийская принимала у себя принцессу и, осыпая ее ласками, говорила:
— Приятные вести. Король в восторге от моей лотереи.
— А я совсем не в восторге, — отвечала принцесса, — я никак не могу приучить себя к мысли, что эти прекрасные браслеты могут оказаться на чьих-то чужих руках.
— Полно, — сказала Анна Австрийская, скрывая улыбкой жестокую боль в груди. — Не возмущайтесь так, милая… и не смотрите на вещи так мрачно.
— Ах, королева, судьба слепа… говорят, вы приготовили двести билетов?
— Ровно двести. Но вы ведь знаете, что выигрыш только один.
— Знаю. Кому же он достанется? Разве вы можете угадать? — с отчаянием произнесла принцесса.
— Вы напомнили мне сон, который я видела сегодня ночью… Ах, сны мои хорошие… я сплю так мало.
— Какой сон?.. Вы больны?
— Нет, — улыбнулась королева, удивительной силой воли подавляя новый приступ боли в груди. — Итак, мне снилось, что выиграл браслеты король.
— Король?
— Вы хотите спросить меня, что стал бы делать король с браслетами?
— Да.
— И все же было бы очень хорошо, если бы король выиграл их, потому что, получив эти браслеты, он должен был бы подарить их кому-нибудь.
— Например, вернуть их вам.
— В таком случае я сама немедленно подарила бы их кому-нибудь. Ведь не думаете же вы, — со смехом сказала королева, — что я пускаю эти браслеты в лотерею из нужды. Я просто хочу подарить их, не возбуждая зависти; но если случай не избавит меня от затруднения, то я приду ему на помощь… Я прекрасно знаю, кому мне подарить эти браслеты.
Слова эти сопровождались такой обворожительной улыбкой, что принцессе пришлось заплатить за нее благодарным поцелуем.
— Вы ведь отлично знаете, — прибавила Анна Австрийская, — что король не вернул бы мне браслетов, если бы выиграл.
— В таком случае он подарил бы их королеве.
— Нет, по той же причине, по какой не вернул бы и мне; тем более что, если бы я хотела подарить их королеве, я обошлась бы без его помощи.
Принцесса искоса взглянула на браслеты, которые блестели на соседнем столике в открытом футляре.
— Как они хороши, — вздохнула она. — Но ведь мы забыли, что сон вашего величества — только сон.
— Я буду очень удивлена, — возразила Анна Австрийская, — если он не сбудется: все мои сны сбываются.
— В таком случае вы можете быть пророком.
— Повторяю вам, дитя мое, что я почти никогда не вижу снов; но этот сон так странно совпадает с моими мыслями, он так хорошо вяжется с моими предположениями.
— Какими предположениями?
— Например, что вы выиграете браслеты.
— Тогда их выиграет не король.
— О! — воскликнула Анна Австрийская. — От сердца его величества не так далеко до вашего сердца… сердца его дорогой сестры… не так далеко, чтобы сон можно было считать несбывшимся. У вас много шансов. Вот сосчитайте.
— Считаю.
— Во-первых, сон. Если король выиграет, он, конечно, подарит вам браслеты.
— Допустим, что это шанс.
— Если вы сами выиграете их, они ваши.
— Понятно.
— Наконец, если выиграет их принц…
— То он подарит их шевалье де Лоррену, — звонко засмеялась принцесса.
Анна Австрийская последовала примеру невестки и тоже расхохоталась, отчего боль ее усилилась и лицо внезапно помертвело.
— Что с вами? — спросила в испуге принцесса.
— Ничего, пустяки… Я слишком много смеялась… Перейдем к четвертому шансу.
— Не могу себе представить его.
— Простите, я тоже могу выиграть браслеты, и если выиграю, положитесь на меня.
— Спасибо, спасибо! — воскликнула принцесса.
— Итак, я надеюсь, что вы избраны судьбой и что теперь мой сон начинает приобретать твердые очертания действительности.
— Право, вы внушаете мне надежду и уверенность, — сказала принцесса, — и выигранные таким образом браслеты будут для меня еще во сто раз драгоценнее.
— Итак, до вечера!
— До вечера!
И они расстались.
Анна Австрийская подошла к браслетам и заметила, рассматривая их:
— Они действительно драгоценны, потому что сегодня вечером с их помощью я завоюю одно сердце и открою одну тайну.
Потом, обернувшись к пустому алькову, прибавила:
— Не правда ли, моя бедная Шеврез, ты так повела бы игру? — И звуки этого забытого имени пробудили в душе королевы воспоминание о молодости с ее веселыми проказами, неиссякаемой энергией и счастьем.
VII. Лотерея
В восемь часов вечера все общество собралось у королевы-матери.
Анна Австрийская в парадном туалете, блистая остатками красоты и всеми средствами, которые кокетство может дать в искусные руки, скрывала, или, вернее, пыталась скрыть от толпы молодых придворных, окружавших ее и все еще восхищавшихся ею по причинам, указанным нами в предыдущей главе, явные разрушения, вызванные болезнью, от которой ей предстояло умереть через несколько лет.
Нарядно и кокетливо одетая принцесса и королева, простая и естественная, как всегда, сидели подле Анны Австрийской и наперерыв старались привлечь к себе ее милостивое внимание.
Придворные дамы соединились в целую армию, чтобы с большей силой и с большим успехом отражать задорные остроты молодых людей. Как батальон, выстроенный в каре, они помогали друг другу держать позицию и отбивать удары.
Монтале, опытная в таких перестрелках, защищала весь строй перекрестным огнем по неприятелю.
Де Сент-Эньян, в отчаянии от упорной, вызывающей холодности мадемуазель де Тонне-Шарант, старался выказывать ей равнодушие; но неодолимый блеск больших глаз красавицы каждый раз побеждал его, и он возвращался к ней с еще большей покорностью, на которую мадемуазель де Тонне-Шарант отвечала ему новыми дерзостями. Де Сент-Эньян не знал, какому святому молиться.
Вокруг Лавальер уже начали увиваться придворные.
Надеясь привлечь к себе взгляды Атенаис, де Сент-Эньян тоже подошел с почтительным поклоном к этой молодой девушке. Некоторые отсталые умы приняли этот простой маневр за желание противопоставить Луизу Атенаис.
Но те, кто так думал, не видели сцены во время дождя и ничего не слышали о ней. Большинство же было прекрасно осведомлено о благосклонности короля к Лавальер, и молодая девушка уже привлекла к себе самых ловких и самых глупых.
Первые угождали ей, говоря себе, как Монтень: «Что знаю я?» Вторые, говоря, как Рабле: «А может быть?» За ними пошли почти все, как во время охоты вся свора устремляется за пятью или шестью искусными ищейками, которые одни только чуют след зверя.
Королева и принцесса, забывая о своем высоком положении, с чисто женским любопытством рассматривали туалеты своих фрейлин и приглашенных дам. Иными словами, они беспощадно критиковали их. Взгляды молодой королевы и принцессы одновременно остановились на Лавальер, вокруг которой, как мы сказали, толпилось много кавалеров. Принцесса была безжалостна.
— Право, — сказала она, наклоняясь к королеве-матери, — если бы судьба была справедлива, она оказалась бы милостивой к этой бедняжке Лавальер.
— Это невозможно, — отвечала с улыбкой королева-мать.
— Почему же?
— Билетов только двести, так что нельзя было внести в список всех придворных.
— Значит, ее нет в нем?
— Нет.
— Как жаль! Она могла бы выиграть браслеты и продать их.
— Продать? — воскликнула королева.
— Ну да, и составить себе таким образом приданое, избавив себя от необходимости выйти замуж нищей, как это, наверное, случится.
— Неужели? Вот бедняжка! — сказала королева-мать. — Значит, у нее нет туалетов?
Она произнесла эти слова тоном женщины, никогда не знавшей недостатка в средствах.
— Прости меня боже, но мне кажется, что она в той же юбке, в какой была утром на прогулке; ей удалось спасти ее благодаря заботам короля, укрывавшего ее во время дождя.
Когда принцесса произносила эти слова, вошел король. Принцесса не заметила его появления, настолько она увлеклась злословием. Но она вдруг увидела, что Лавальер, стоявшая против галереи, смутилась и сказала несколько слов окружавшим ее придворным; те тотчас же отошли в сторону. И их движение привлекло глаза принцессы к входной двери. В этот момент капитан гвардии известил о появлении короля.
Лавальер, которая до тех пор пристально смотрела на галерею, внезапно опустила глаза.
Король был одет роскошно и со вкусом и разговаривал с принцем и герцогом де Роклором, шедшими справа и слева от него.
Король подошел сначала к королевам, которым почтительно поклонился. Он поцеловал руку матери, сказал несколько комплиментов принцессе по поводу элегантности ее туалета и стал обходить собравшихся. Он поздоровался с Лавальер совершенно так же, как и с остальными. Затем его величество вернулся к матери и жене.
Когда придворные увидели, что король обратился к молодой девушке лишь с самой банальной фразой, они тотчас же вывели отсюда свое заключение: они решили, что у короля было мимолетное увлечение и что это увлечение уже прошло.
Следует, однако, заметить, что в числе придворных, окружавших Лавальер, находился г-н Фуке и его особая внимательность поддержала растерявшуюся молодую девушку. Г-н Фуке собирался поговорить с нею, но тут подошел г-н Кольбер и, отвесив Фуке поклон по всем правилам искусства, по-видимому, решил, в свою очередь, завязать разговор с Лавальер. Фуке тотчас же отошел.
Монтале и Маликорн пожирали глазами эту сцену, обмениваясь впечатлениями.
Де Гиш, стоя в оконной нише, видел только принцессу. Но так как она часто останавливала свой взгляд на Лавальер, то глаза де Гиша тоже время от времени устремлялись в сторону фрейлины.
Лавальер инстинктивно почувствовала на себе силу этих глаз, направляемых на нее с любопытством или с завистью. Ничто не приходило ей на помощь: ни сочувственное слово со стороны подруг, ни любовный взгляд короля. Невозможно выразить, как страдала бедняжка.
Королева-мать велела выдвинуть столик, на котором были разложены лотерейные билеты, и попросила г-жу де Мотвиль прочитать список избранных.
Нечего и говорить, что список был составлен по всем правилам этикета: сначала шел король, потом королева-мать, потом королева, принц, принцесса и т. д. Все сердца трепетали во время этого чтения. Приглашенных было более трехсот. Каждый спрашивал себя, будет ли в списке его имя.
Король слушал так же внимательно, как и остальные. Когда было произнесено последнее имя, он понял, что Лавальер среди них не было. Впрочем, это мог заметить каждый. Король покраснел, как всегда, когда что-нибудь досаждало ему.
На лице кроткой и покорной Лавальер не выразилось ничего.
Во время чтения король не спускал с нее глаз. И это успокаивало ее. Она была слишком счастлива, чтобы какая-нибудь другая мысль, кроме мысли о любви, могла проникнуть в ее ум или в ее сердце. Вознаграждая ее за это трогательное смирение нежными взглядами, король показывал девушке, что он понимает всю ее деликатность.
Список был прочитан. Лица женщин, пропущенных или забытых, выражали разочарование. Маликорна тоже забыли внести в список, и его гримаса явно говорила Монтале: «Разве мы не сумеем урезонить фортуну, чтобы она впредь не забывала о нас?»
«О, конечно», — отвечала тонкая улыбка мадемуазель Оры.
Билеты были розданы по номерам. Прежде всего получил билет король, потом королева-мать, потом королева, потом принц, принцесса и т. д.
После этого Анна Австрийская раскрыла мешочек из испанской кожи, в котором было двести перламутровых шариков с выгравированными на них номерами, и предложила самой младшей фрейлине вынуть оттуда один шарик.
Все эти приготовления делались медленно, и присутствовавшие напряженно ждали, больше с жадностью, чем с любопытством.
Де Сент-Эньян наклонился к уху мадемуазель де Тонне-Шарант.
— У нас по билету, мадемуазель, — сказал он ей, — давайте соединим наши шансы. Если я выиграю, браслеты будут ваши; если выиграете вы, вы подарите мне один взгляд ваших чудесных глазок.
— Нет, — отвечала Атенаис, — браслеты будут ваши, если вы их выиграете. Каждый за себя.
— Вы беспощадны, — вздохнул де Сент-Эньян, — я накажу вас за это четверостишием…
— Тише, — перебила его Атенаис, — вы помешаете мне услышать, какой номер выиграл.
— Номер первый, — произнесла девушка, вынувшая перламутровый шарик из мешочка.
— Король! — вскрикнула королева-мать.
— Король выиграл! — радостно повторила молодая королева.
— Ваш сон сбылся, — с восторгом шепнула принцесса на ухо Анне Австрийской.
Один король не выразил никаких признаков удовольствия. Он только поблагодарил фортуну за ее благосклонность к нему, слегка поклонившись девушке, которая играла роль представительницы капризной богини. Получив из рук Анны Австрийской футляр с браслетами, король сказал под завистливый шепот всего собрания:
— Так эти браслеты действительно красивы?
— Взгляните, — отвечала Анна Австрийская, — и судите сами.
Король посмотрел.
— Да, — сказал он, — и какие чудесные камеи, какая отделка!
— Какая отделка! — повторила принцесса.
Королева Мария-Терезия с первого же взгляда поняла, что король не подарит ей браслетов; но так как он, по-видимому, не собирался дарить их и принцессе, она была более или менее удовлетворена.
Король сел.
Наиболее приближенные к королю придворные один за другим подходили полюбоваться на драгоценность, которая вскоре с позволения короля стала переходить из рук в руки. Тотчас все знатоки и не знатоки стали издавать восхищенные восклицания и осыпать короля поздравлениями. Действительно, было от чего прийти в восторг; одни восхищались брильянтами, другие камеями.
Дамы выражали явное нетерпение, видя, что подобное сокровище захвачено кавалерами.
— Господа, господа, — сказал король, от которого ничего не укрылось, — право, можно подумать, что вы носите браслеты, как сабиняне. Вам пора уже вручить их дамам, которые, мне кажется, больше понимают в таких вещах, чем вы.
Эти слова показались принцессе началом выполнения решения, принятого королем. К тому же ее счастливая уверенность подкреплялась взглядами королевы-матери.
Придворный, державший браслеты в то мгновение, когда король бросил свое замечание, поспешно подал браслеты королеве Марии-Терезии, которая, хорошо зная, что они предназначаются не для нее, едва взглянула на них и отдала принцессе. Принцесса и особенно принц долго рассматривали браслеты жадными глазами. Потом принцесса передала драгоценность другим дамам, произнеся одно только слово, но с таким выражением, что оно стоило длинной фразы:
— Великолепны!
Дамы, получившие браслеты из рук принцессы, полюбовались ими и отправили их дальше.
А в это время король спокойно разговаривал с де Гишем и Фуке. Вернее, не разговаривал, а слушал. Привыкнув к известным оборотам речи, король, подобно всем людям, обладающим бесспорной властью, схватывал из обращенных к нему фраз лишь те слова, которые заслуживали ответа. Что же касается его внимания, то оно было направлено в другую сторону. Оно двигалось вместе с его взглядом.
Мадемуазель де Тонне-Шарант была последней в списке дам, участвовавших в лотерее. Поэтому она поместилась в конце шеренги, и после нее оставались только Монтале и Лавальер. Когда браслеты дошли до этих двух фрейлин, никто уже, казалось, не обращал на них внимания. Скромные руки, державшие в этот момент драгоценности, лишали их всякого значения.
Монтале долго смотрела на браслеты, дрожа от радости, зависти и жадности. Она бы без колебаний предпочла брильянты камеям, стоимость — красоте. Поэтому с большим трудом передала она их своей соседке. Лавальер же бросила на них почти равнодушный взгляд.
— Какие роскошные, какие великолепные браслеты! — воскликнула Монтале. — И ты не приходишь от них в восторг, Луиза? Право, ты не женщина!
— Нет, я восхищена, — отвечала Лавальер с грустью. — Но зачем желать того, что не может нам принадлежать?
Король, чуть наклонившись вперед и вытянув шею, внимательно прислушивался к словам Луизы. Едва затих ее голос, как он, весь сияющий, встал и, пройдя всю залу, приблизился к Лавальер.
— Вы ошибаетесь, мадемуазель, — сказал он ей, — вы женщина, а всякая женщина имеет право на женские драгоценности.
— О государь! — воскликнула Лавальер. — Значит, ваше величество совершенно не хочет верить в мою скромность?
— Я верю, что вы украшены всеми добродетелями, мадемуазель, в том числе искренностью, и прошу вас откровенно сказать, как вы находите эти браслеты.
— Они так прекрасны, государь, что могут быть поднесены только королеве.
— Я в восторге от ваших слов, мадемуазель. Браслеты ваши, и король просит вас принять их.
Лавальер почти с испугом протянула футляр королю, но тот мягко отстранил дрожащую руку Лавальер.
Все замерли от удивления, воцарилась тишина. Однако королевы, не слышавшие этого разговора, не могли понять всего происходящего.
Принцесса поманила к себе де Тонне-Шарант.
— Боже мой, что за счастливица Лавальер, — воскликнула Атенаис, — король только что подарил ей браслеты!
Принцесса до крови закусила губы. Молодая королева посмотрела на нее, потом на Лавальер и расхохоталась. Анна Австрийская сидела неподвижно, поглощенная зародившимися у нее подозрениями, и невыносимо страдала от боли в груди.
Де Гиш, увидя бледность принцессы и поняв ее причину, поспешно вышел. Воспользовавшись общей суматохой, Маликорн подошел к Монтале и шепнул ей:
— Ора, подле тебя наше счастье и наше будущее.
— Да, — отвечала Монтале.
И она нежно поцеловала Лавальер, которую охотно задушила бы.
VIII. Малага
Во время этой долгой и жестокой борьбы страстей, разыгравшейся под кровом королевского дворца, один из наших героев, которым меньше всего следовало бы пренебрегать, находился, однако, в большом пренебрежении, был забыт и очень несчастен.
Действительно, д’Артаньян, которого нужно назвать по имени, чтобы вспомнить о его существовании, — д’Артаньян не имел решительно ничего общего с этим блестящим и легкомысленным обществом. Пробыв с королем два дня в Фонтенбло, посмотрев пасторали и героико-комические маскарады своего повелителя, мушкетер почувствовал, что это не может наполнить его жизнь.
Он был окружен людьми, которые поминутно обращались к нему:
— Как по-вашему, идет мне этот костюм, господин д’Артаньян?
А он отвечал спокойным и насмешливым голосом:
— По-моему, вы разряжены, как самая красивая обезьяна на Сен-Лоранской ярмарке.
Это был обычный комплимент д’Артаньяна; волей-неволей приходилось довольствоваться им.
Когда же его спрашивали:
— Как вы оденетесь сегодня вечером, господин д’Артаньян?
Он отвечал:
— Наоборот, я разденусь.
И все хохотали, даже дамы.
Но, проведя таким образом два дня, мушкетер увидел, что в замке не происходит ничего серьезного и что король совершенно забыл или по крайней мере делал вид, что совершенно забыл и Париж, и Сен-Манде, и Бель-Иль, что г-н Кольбер размышлял только об иллюминациях и фейерверках, что дамам предстояло по крайней мере еще целый месяц строить глазки и отвечать на нежные взоры.
И д’Артаньян попросил у короля отпуск по семейным делам.
В ту минуту, когда д’Артаньян обратился к королю с этой просьбой, Людовик ложился спать, утомленный танцами.
— Вы хотите меня покинуть, господин д’Артаньян? — с удивлением спросил он.
Людовик XIV никак не мог понять, чтобы кто-нибудь, имея счастье лицезреть его, был в силах расстаться с ним.
— Государь, — сказал д’Артаньян, — я уезжаю, потому что я вам не нужен. Ах, если бы я мог поддерживать вас во время танцев, тогда другое дело.
— Но, дорогой д’Артаньян, — серьезно отвечал король, — кавалеров не поддерживают во время танцев.
— Простите, — поклонился мушкетер, продолжая иронизировать, — право, я этого не знал.
— Значит, вы не видели, как я танцую? — удивился король.
— Видел; но я думал, что с каждым днем танцы будут исполняться все с большим жаром. Я ошибся; тем более мне здесь нечего делать. Государь, повторяю, я вам не нужен. Кроме того, если я понадоблюсь, ваше величество знаете, где меня найти.
— Хорошо, — согласился король.
И дал ему отпуск.
Поэтому мы не станем искать д’Артаньяна в Фонтенбло, это было бы бесполезно, но, с позволения читателей, поедем прямо на Ломбардскую улицу, в лавку под вывеской «Золотой пестик», к нашему почтенному приятелю Планше.
Восемь часов вечера, жарко; открыто одно-единственное окно в комнате на антресолях. Ноздри мушкетера щекочет запах пряностей, смешанный с менее экзотическим, но более едким, проникающим с улицы запахом навоза.
Д’Артаньян устроился в громадном кресле, положив ноги на табурет, так что его туловище образует тупой угол. Его взгляд, обыкновенно проницательный и подвижный, теперь застыл. Д’Артаньян тупо глядит на кусочек голубого неба, виднеющийся в просвете между трубами. Этот лоскуток неба так мал, что его хватило бы только на починку мешков с чечевицей или бобами, которыми завалена лавка в нижнем этаже.
Окаменевший в этой позе, д’Артаньян не похож больше на вояку, не похож и на придворного офицера; это просто буржуа, дремлющий от обеда до ужина, от ужина до отхода ко сну. Мозг его теперь так окостенел, что в нем не осталось места ни для одной мысли, материя всецело завладела духом и бдительно стережет, как бы под крышку черепа не пробрался контрабандой какой-нибудь обрывок мысли.
Итак, был вечер; в лавках зажигались огни, а окна в верхних этажах закрывались; раздавались шаги сторожевого патруля.
Д’Артаньян по-прежнему ничего не слышал и тупо смотрел на клочок неба. В двух шагах от него, в темноте, лежал на мешке Планше, подперев подбородок руками. Он смотрел на д’Артаньяна, который мечтал или спал с открытыми глазами.
Наблюдения Планше длились уже долго.
— Гм, гм… — проворчал он наконец.
Д’Артаньян не шевельнулся. Тогда Планше понял, что нужно принять какие-то более радикальные меры. По зрелом размышлении он нашел, что при настоящем положении вещей самое лучшее слезть с мешка на пол, что он и сделал, пробормотав при этом:
— Болван! (Этим эпитетом он наградил самого себя.)
Но д’Артаньян, которому в своей жизни довелось слышать немало шумов, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на шум, произведенный Планше. Вдобавок огромная телега, нагруженная камнями, своим грохотом заглушила шум от этого падения. Однако Планше показалось, будто на лице мушкетера при слове «болван» промелькнула одобрительная улыбка.
Планше осмелел и сказал:
— Вы не спите, господин д’Артаньян?
— Нет, Планше, я даже не сплю, — отвечал мушкетер.
— Я в отчаянии от слова даже.
— Почему? Ведь это самое обыкновенное слово.
— Оно меня огорчает.
— Объяснись, я тебя не понимаю.
— Если вы говорите, что даже не спите, это значит, что вы не находите утешения даже в сне. Значит, вы как будто обращаетесь ко мне: «Планше, мне до смерти скучно».
— Ты знаешь, Планше, что я никогда не скучаю.
— Кроме сегодняшнего и вчерашнего дня.
— Что ты!
— Господин д’Артаньян, вот уже неделя, как вы приехали из Фонтенбло; вот уже неделя, как вы не командуете вашим отрядом и не выводите его на учение. Вам не хватает треска мушкетов и грохота барабана. Я сам носил мушкет и понимаю вас.
— Уверяю тебя, Планше, что я ничуть не скучаю, — отвечал д’Артаньян.
— Так что же в таком случае вы делаете, лежа как мертвый?
— Друг мой Планше, когда я участвовал, когда ты участвовал, когда все мы участвовали в осаде Ла-Рошели, в нашем лагере был араб, искусный стрелок из кулеврины. Это был смышленый малый, хотя и оливкового цвета. Так вот этот араб, поев или поработав, ложился, вот как я лежу в данную минуту, и курил какие-то волшебные листья в трубке с янтарным наконечником; если же какой-нибудь проходивший мимо офицер упрекал его за то, что он вечно дрыхнет, араб спокойно отвечал: «Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать».
— Это был мрачный араб и по цвету кожи, и по изречениям, — промолвил Планше. — Я отлично его помню. Он с большим наслаждением рубил головы протестантов.
— Совершенно верно, и бальзамировал их, когда они того стоили.
— Да, и, бальзамируя их своими зельями, он был похож на корзинщика за работой.
— Да, да, Планше, совершенно верно.
— О, и у меня есть память!
— Не сомневаюсь. Но что скажешь ты о его рассуждении?
— С одной стороны, я нахожу его превосходным, а с другой — глупым.
— Объяснись, Планше, объяснись.
— Лучше сидеть, чем стоять, — да, это верно, когда устанешь, в некоторых обстоятельствах… (Планше лукаво улыбнулся.) Лучше лежать, чем сидеть; но последнее утверждение: лучше умереть, чем лежать, — я нахожу совершенно нелепым; я, безусловно, предпочитаю постель, и если вы не согласны со мною, то это доказывает только, что вы, как я уже имел честь сказать, смертельно скучаете.
— Планше, ты знаешь господина Лафонтена?
— Аптекаря на углу улицы Сен-Медерик?
— Нет, баснописца.
— А-а-а… «Ворона и лисица»?
— Вот-вот. Я точь-в-точь его заяц.
— Разве у него есть и заяц?
— У него всякие звери.
— Что же делает его заяц?
— Раздумывает.
— Вот как?
— Планше, и я раздумываю, как заяц господина Лафонтена.
— Вы думаете? — с тревогой спросил Планше.
— Да. Твое жилище, Планше, достаточно уныло и толкает на размышления; надеюсь, ты согласен со мной?
— Однако, сударь, у вас вид на улицу.
— Черт возьми, как это весело!
— А между тем, сударь, если бы ваша комната выходила во двор, вы скучали бы еще пуще… Нет, я хотел сказать: размышляли бы еще больше.
— Ей-богу, не знаю, Планше!
— Добро бы еще, — продолжал лавочник, — ваши мысли были похожи на те, что привели вас к реставрации Карла Второго.
И Планше тихонько засмеялся.
— Планше, друг мой, — упрекнул его д’Артаньян, — вы становитесь честолюбивы!
— Разве нет другого короля, которого можно было бы посадить на трон, господин д’Артаньян? Разве нет другого Монка, которого можно было бы упрятать в тюрьму?
— Нет, дорогой Планше. Все короли сидят на своих тронах… Может быть, впрочем, не так прочно, как я на этом кресле, но все-таки сидят.
И д’Артаньян вздохнул.
— Господин д’Артаньян, — сказал Планше, — вы огорчаете меня.
— Ты очень добр, Планше.
— У меня есть одно подозрение, да простит меня господь.
— Какое?
— Господин д’Артаньян, вы худеете.
— О-о-о! — воскликнул д’Артаньян, ударяя себя в грудь, которая зазвенела, как пустая кираса. — Это невозможно, Планше.
— Видите ли, — с чувством продолжал Планше, — так как вы худеете у меня…
— Ну?
— То я совершу что-нибудь страшное.
— Как?
— Да, да.
— Что ж ты сделаешь, скажи!
— Разыщу того, кто печалит вас.
— Ну вот, теперь ты говоришь о каких-то печалях.
— Да, у вас есть печаль.
— Нет, Планше, нет.
— Уверяю, что у вас есть печаль и от нее вы худеете.
— Я худею? Ты уверен в этом?
— На глазах… Малага!.. Если вы будете худеть и дальше, я возьму рапиру и проткну грудь господину д’Эрбле.
— Что? — воскликнул д’Артаньян, подскочив на кресле. — Что вы сказали, Планше? Почему в вашей лавочке вдруг вспомнили господина д’Эрбле?
— Хорошо, хорошо! Сердитесь, если вам угодно, проклинайте, если хотите, но — черт возьми! — я знаю то, что знаю.
После этого второго выпада Планше д’Артаньян сел в такой позе, чтобы не упустить ни одного движения достойного бакалейщика, то есть облокотился на колени и вытянул шею по направлению к собеседнику.
— Ну-ка, объяснись, — сказал он, — как мог ты произнести такое страшное кощунство, как мог ты поднять оружие на господина д’Эрбле, твоего прежнего господина, моего друга, духовное лицо, мушкетера, ставшего епископом?
— Я поднял бы оружие на родного отца, когда вижу вас в таком состоянии.
— Господин д’Эрбле — дворянин.
— Мне все равно, будь он хоть трижды дворянин. Из-за него у вас черные мысли, вот что я знаю. А от черных мыслей худеют. Малага! Я не хочу, чтобы господин д’Артаньян исхудал у меня в доме.
— Черные мысли из-за господина д’Эрбле? Объяснись, пожалуйста, объяснись.
— Уже три ночи подряд вас мучает кошмар.
— Меня?
— Да, вас, и во сне вы повторяете: «Арамис, коварный Арамис!»
— Я говорил это? — тревожно спросил д’Артаньян.
— Говорили, честное слово!
— Ну так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой: всякий сон — ложь.
— Нет, нет! Вот уже три дня, как, возвращаясь домой, вы каждый раз спрашиваете: «Ты видел господина д’Эрбле?» или же: «Ты не получал писем на мое имя от господина д’Эрбле?»
— Что же тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом? — ухмыльнулся д’Артаньян.
— Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объеме.
— Планше, я потолстею, даю тебе честное слово.
— Хорошо, сударь, принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово священно…
— Мне больше не будет сниться Арамис.
— Прекрасно!..
— Я больше не буду спрашивать у тебя, получены ли письма от господина д’Эрбле.
— Превосходно.
— Но объясни мне одну вещь.
— Говорите, сударь…
— Я человек наблюдательный…
— Я это отлично знаю…
— Сейчас ты произносил странное ругательство… Я его никогда от тебя не слышал.
— «Малага!» — хотите вы сказать?
— Да.
— Я всегда так ругаюсь, с тех пор как стал лавочником.
— Но ведь так называется сорт изюма.
— Я ругаюсь так, когда я взбешен. Если я сказал «малага!» — значит, я перестал владеть собой.
— Но прежде я не слыхал от тебя ничего подобного.
— Это правда, сударь. Меня научили.
И, произнося эти слова, Планше подмигнул так хитро, что д’Артаньян внимательно взглянул на него.
— Эге! — протянул он.
Планше повторил:
— Эге!
— Вот как, вот как, господин Планше!
— Ей-богу, сударь, — сказал Планше, — я не похож на вас, я не люблю предаваться размышлениям.
— Напрасно.
— Я хочу сказать — не люблю скучать, сударь. Жизнь так коротка, почему же ею не пользоваться?
— О, да ты эпикуреец, Планше!
— А почему же мне не быть им? Руки у меня ловкие, пишу ли я или отвешиваю сахар и пряности; ноги крепкие, танцую я или гуляю; желудок отменный, и ем хорошо и перевариваю; сердце не очень заскорузло… словом, сударь…
— Словом, Планше?
— Да вот… — протянул лавочник, потирая руки.
Д’Артаньян положил ногу на ногу.
— Планше, друг мой, вы меня огорошили. Вы предстаете предо мной в совершенно новом свете.
Планше, польщенный до последней степени, продолжал потирать руки с такой силой, словно хотел стянуть с них кожу.
— Значит, оттого, что я простой человек, вы считали меня болваном?
— Браво, Планше, превосходное рассуждение.
— Извольте следить за моей мыслью, сударь. Я сказал, — продолжал Планше, — что без наслаждений нет счастья на земле.
— Совершенная правда, Планше! — перебил его д’Артаньян.
— Но так как наслаждения — вещь далеко уж не такая обыкновенная, то ограничимся утешениями.
— И ты утешаешься?
— Именно.
— Расскажи мне, как ты утешаешься.
— Вступая в бой со скукой, я надеваю щит. До времени я терплю, но накануне того дня, когда мне кажется, что я начну скучать, я развлекаюсь.
— И это вся твоя мудрость?
— Вся.
— Ты сам придумал это?
— Сам.
— Чудесно.
— Что вы скажете по этому поводу?
— Скажу, что ни одна философия в мире не сравнится с твоей.
— Так последуйте моему примеру!
— Соблазнительно. Лучшего я не хотел бы; но не все люди на один образец, и очень может быть, если бы я стал развлекаться, как ты советуешь, я страшно заскучал бы.
— Сначала попробуйте.
— Что же ты делаешь, скажи?
— Вы заметили, что я по временам уезжаю?
— Дорогой Планше, понимаешь, когда люди видятся почти каждый день и один исчезает, то это очень ощутительно для другого. Разве ты не чувствуешь моего отсутствия, когда я уезжаю из Парижа по делам?
— Еще бы, я тогда словно тело без души.
— Итак, у нас на этот счет нет разногласий. Продолжай!
— А вы обратили внимание, когда я уезжаю?
— Пятнадцатого и тридцатого каждого месяца.
— И нахожусь в отсутствии?
— Иногда два, иногда три, иногда четыре дня.
— Что же, по-вашему, я делаю?
— Собираешь деньги.
— И по возвращении какое у меня, по-вашему, лицо?
— Очень довольное.
— Значит, вы заметили, что я тогда бываю очень доволен. И чему вы приписываете это довольство?
— Тому, что твоя торговля шла хорошо; тому, что ты выгодно закупил рис, сливы, сахар, сушеные груши и патоку. У тебя всегда был очень живой характер, Планше, поэтому я нисколько не удивился, узнав, что ты занялся бакалейной торговлей. Ведь это самая живая и самая приятная торговля, и, занимаясь ею, постоянно имеешь дело с самыми ароматными плодами земли.
— Хорошо сказано, сударь. Но вы ошибаетесь!
— Неужели ошибаюсь?
— Да, думая, что каждые две недели я уезжаю за деньгами или за покупками. Бог с вами, сударь, как вы могли подумать подобную вещь?
И Планше так расхохотался, что у д’Артаньяна зародились большие сомнения насчет собственной проницательности.
— Признаюсь, — улыбнулся мушкетер, — что ты гораздо хитрее, чем я думал.
— Сударь, это правда.
— Как правда?
— Вероятно, правда, раз вы говорите; но поверьте, что это нисколько не уронило вас в моем мнении.
— Я очень рад.
— Ей-богу, вы человек гениальный. Когда дело касается войны, неожиданных решений, тактики и ловких ударов… О, короли ничто рядом с вами! Но когда речь идет о душевных и телесных радостях, о сладостях жизни, если можно так выразиться, — ах, сударь, гениальные люди никуда не годятся! Они — сами себе палачи.
— Ей-богу, Планше, — сказал д’Артаньян, сгоравший от любопытства, — ты меня страшно заинтересовал.
— Вам уже не так скучно, не правда ли?
— Я не скучал. Однако с тех пор, как ты начал говорить, мне стало гораздо веселее.
— Отлично для начала! Я вас вылечу, ручаюсь вам.
— Был бы очень рад.
— Давайте попробуем?
— Хоть сейчас.
— Ладно. У вас есть здесь лошади?
— Да, десять, двадцать, тридцать.
— Так много не нужно. Хватит и двух.
— Они в твоем распоряжении, Планше.
— Прекрасно, я вас увезу.
— Когда?
— Завтра.
— Куда?
— Вы хотите знать слишком много.
— Однако согласись, что мне нужно знать, куда я еду.
— Вы любите деревню?
— Не очень, Планше.
— Значит, вы любите город?
— Смотря по обстоятельствам.
— Ну, так я отвезу вас в одно место, которое наполовину город, наполовину деревня.
— Хорошо.
— И там вам будет очень весело, я в этом уверен.
— Прекрасно!
— И — о чудо! — это то самое место, откуда вы только что бежали от скуки.
— Я?
— Да, вы смертельно скучали.
— Значит, ты едешь в Фонтенбло?
— Именно в Фонтенбло.
— Боже мой, что же ты там будешь делать?
В ответ на эти слова Планше лукаво подмигнул д’Артаньяну.
— У тебя, злодей, есть там недвижимость?
— О, домишко, сущая безделица! Но там премило, честное слово.
— Я еду в поместье, Планше! — воскликнул д’Артаньян.
— Когда пожелаете?
— А разве мы не условились на завтра?
— Хорошо, завтра; к тому же завтра четырнадцатое число, то есть канун того дня, когда я боюсь соскучиться. Итак, решено?
— Решено.
— Вы дадите мне одну из ваших лошадей.
— Лучшую.
— Нет, я предпочел бы самую смирную; вы ведь знаете, я никогда не был хорошим наездником. А в лавке я окончательно отвык. И потом…
— Потом?
— Потом, — продолжал Планше, снова подмигивая, — я не хочу утомляться.
— Почему? — решился спросить д’Артаньян.
— Если бы я устал, какое было бы для меня веселье!
С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал потягиваться, довольно гармонично похрустывая всеми суставами.
— Планше! Планше! — воскликнул д’Артаньян. — Я считаю, что сибаритам не угнаться за тобой! Ах, Планше! Видно, что мы еще не съели вместе пуда соли.
— Почему же это, сударь?
— Да ведь я еще не знаю тебя, — сказал д’Артаньян, — и теперь окончательно утверждаюсь в мысли, которая однажды мелькнула у меня в Булони, когда ты чуть не задушил Любена, лакея господина де Варда. Планше, твоя изобретательность неистощима.
Планше самодовольно засмеялся, пожелал мушкетеру спокойной ночи и спустился в комнату за лавкой, которая служила ему спальней.
Д’Артаньян снова сел в прежней позе, и его лицо, на мгновение прояснившееся, стало еще более задумчивым. Он уже позабыл о сумасбродных выходках Планше.
«Да, — сказал он себе, возвращаясь к мыслям, прерванным только что изложенным приятным разговором. — Да, все дело в следующем: 1) узнать, чего Безмо хотел от Арамиса; 2) узнать, почему нет вестей от Арамиса; 3) узнать, где Портос. Тут скрыта какая-то тайна. И, — продолжал д’Артаньян, — раз друзья ничего не сообщают мне, обратимся к помощи нашего бедного умишки. Сделаем все, что можно, черт побери, или малага, как говорит Планше».
IX. Письмо господина де Безмо
Для осуществления принятого решения д’Артаньян на следующее же утро отправился к г-ну де Безмо.
В Бастилии в этот день производилась уборка: полировали и мыли пушки, скоблили лестницы; казалось, что тюремщики чистят даже ключи. Одни гарнизонные солдаты разгуливали по дворам под предлогом, что они достаточно чисты.
Комендант Безмо принял д’Артаньяна с изысканной вежливостью, но был с ним так сдержан, что, несмотря на все старания, д’Артаньяну не удалось выудить из него ни слова. Но чем сдержаннее был комендант, тем недоверчивее становился д’Артаньян. И ему показалось даже, что комендант действует так по какому-то недавно полученному приказанию.
В Пале-Рояле Безмо вел себя с д’Артаньяном совсем иначе. Он не был тем холодным и непроницаемым человеком, каким казался в Бастилии.
Когда д’Артаньян вздумал завести речь о денежных затруднениях, заставивших Безмо отыскивать Арамиса и побудивших коменданта к разговорчивости в тот вечер, Безмо сослался на распоряжение, которое ему нужно было отдать в тюрьме, и так долго заставил д’Артаньяна скучать в одиночестве, что наш мушкетер, отчаявшись вытянуть у него еще что-нибудь, не дождался его возвращения и ушел.
Но у д’Артаньяна зародились подозрения, а в таких случаях ум его не дремал. Как кошка среди четвероногих, так и д’Артаньян среди людей был живым воплощением тревоги и нетерпения. Встревоженная кошка так же не способна оставаться на месте, как шелковинка, колеблемая ветром. Кошка, подстерегающая мышь, замирает на своем наблюдательном посту, и ни голод, ни жажда не способны заставить ее тронуться с места.
Горевший нетерпением д’Артаньян вдруг стряхнул с себя это чувство, как слишком тяжелый плащ. Он пришел к убеждению, что от него скрывают как раз то, что ему важно знать. Развивая свои мысли, он решил далее, что Безмо не преминет сообщить Арамису о только что нанесенном визите, если Арамис действительно дал ему какое-нибудь предписание. Так и случилось.
Не успел еще Безмо вернуться из тюрьмы, как д’Артаньян спрятался в засаду возле улицы Пти-Мюск, откуда видно было всех выходящих из Бастилии. Пробыв около часа в тени навеса возле гостиницы «Золотая борона», д’Артаньян увидел наконец, как из тюрьмы вышел солдат.
Это было как раз то, чего он желал. Каждый сторож, каждый тюремщик Бастилии имел свои выходные дни, даже часы, потому что никому из них не позволялось жить в крепости и приводить туда своих жен. Они могли выходить, следовательно, не возбуждая любопытства.
Но стоявших там солдат запирали на сутки, это всем было известно, и д’Артаньяну лучше, чем другим. Такие солдаты могли выходить в форме только по особому приказанию, по срочному делу.
Итак, из Бастилии показался солдат и пошел медленно-медленно, с видом счастливого смертного, который, вместо караула в несносной кордегардии или на не менее скучном бастионе, неожиданно получает свободу и возможность прогуляться, причем эти два удовольствия сочетаются у него с исполнением служебного поручения. Солдат направился к предместью Сент-Антуан, упиваясь свежим воздухом, солнцем и поглядывая на женщин.
Д’Артаньян издали стал следить за ним. Его намерения еще не определились.
«Прежде всего нужно посмотреть в лицо этого простака. Увидев человека, легче судить о нем».
Д’Артаньян ускорил шаг и без труда обогнал солдата. Он не только разглядел его смышленое и решительное лицо, но заметил также, что у него был довольно-таки красный нос.
«Малый любит выпить», — мелькнуло у него в голове.
Одновременно с красным носом ему бросился в глаза сложенный лист белой бумаги за поясом солдата.
«Отлично, у него есть письмо, — продолжал рассуждать д’Артаньян. — Солдат, должно быть, очень рад, что на него пал выбор господина Безмо. Он не продаст послания».
Пока Д’Артаньян досадовал на это обстоятельство, солдат продолжал шагать по направлению к Сент-Антуанскому предместью.
«Он, конечно, направляется в Сен-Манде, — решил мушкетер, — и я не узнаю, что в этом письме…»
Было от чего потерять голову.
«Если бы я был в форме, — сказал д’Артаньян, — я велел бы задержать молодца вместе с письмом. Первый же патруль помог бы мне. Но, черт возьми, не стану же я объявлять своего имени ради подобного подвига! Напоить его? Но у него родятся подозрения, и я сам, чего доброго, опьянею… Ах, прах побери, какой же я стал безмозглый! Напасть на несчастного, обезоружить его, убить из-за письма? На это можно было бы пойти, если бы дело шло о письме королевы к лорду или о письме кардинала к королеве. Но боже мой, из-за жалких интриг господ Арамиса и Фуке против господина Кольбера погубить человеческую жизнь! Нет, это не стоит даже десяти экю!»
Так он философствовал, грызя ногти и кусая усы, и вдруг увидел небольшую группу полицейских с комиссаром. Они вели человека красивой наружности, отбивавшегося от них изо всех сил. Полицейские изорвали на нем платье и тащили его. Арестованный требовал, чтобы с ним обращались вежливо, заявляя, что он дворянин.
Завидя нашего посыльного, бедняга крикнул:
— Эй, солдат, сюда!
Солдат подошел к арестованному; вокруг полицейских собиралась толпа.
В эту минуту у д’Артаньяна родилась мысль. Это была первая его мысль, и, как читатель увидит, неплохая.
Дворянин стал рассказывать солдату, что его захватили в одном доме как вора, тогда как на самом деле он был любовником хозяйки; курьер выразил ему сочувствие и стал утешать его, давая советы со всей серьезностью, какую французский солдат вкладывает в свои слова, когда дело касается самолюбия и духа корпорации. Д’Артаньян подкрался к солдату, тесно окруженному толпой, и ловко вытащил у него бумагу из-за пояса. Так как в этот момент дворянин в разорванной одежде тянул солдата в свою сторону, а комиссар дергал дворянина к себе, то д’Артаньян овладел письмом без малейшей помехи.
Он отошел шагов на десять за угол и прочел адрес:
«Господину дю Валлону у г-на Фуке, в Сен-Манде».
— Отлично, — сказал д’Артаньян.
И, не разрывая конверта, он вскрыл его и вытащил сложенный вчетверо лист, на котором стояли нижеследующие слова:
«Дорогой дю Валлон. Благоволите передать г-ну д’Эрбле, что он приходил в Бастилию и расспрашивал.
— Ну, теперь все ясно! — воскликнул д’Артаньян. — Портос с ними заодно.
Узнав то, что ему было нужно, мушкетер подумал: «Черт возьми! Бедному солдатику достанется от Безмо за мою проделку… Если он вернется без письма… Что ему будет? В сущности, мне вовсе не нужно это письмо; когда яйцо съедено, зачем скорлупа?»
Д’Артаньян увидел, что комиссар и полицейские убедили солдата не вмешиваться и повели арестованного дальше. Посланца Безмо по-прежнему окружала толпа.
Д’Артаньян замешался в самую гущу, незаметно уронил письмо и поспешно удалился. Наконец солдат снова двинулся в путь по направлению к Сен-Манде, продолжая думать о дворянине, который просил его заступничества. Вдруг он вспомнил о поручении, взглянул на пояс и увидел, что письма нет. Его отчаянный крик доставил удовольствие д’Артаньяну.
Бедняга принялся оглядываться с выражением ужаса на лице и наконец на расстоянии двадцати шагов от себя заметил желанный конверт. Он устремился к нему, как сокол бросается на добычу. Правда, конверт немного запылился и помялся, но письмо все же было найдено.
Д’Артаньян заметил, что сломанная печать очень обеспокоила солдата. Однако он, по-видимому, утешился в конце концов и снова сунул бумагу за пояс.
«Ступай, — мысленно напутствовал его Д’Артаньян, — у меня теперь довольно времени; можешь опередить меня. Должно быть, Арамиса нет в Париже, раз Безмо пишет Портосу. Милый Портос, как приятно повидаться с ним… и побеседовать», — так заключил свои размышления гасконец.
И, соразмеряя свои шаги с шагами солдата, мушкетер решил явиться к г-ну Фуке через четверть часа после солдата.
X. Читатель с удовольствием увидит, что сила Портоса нисколько не убавилась
Д’Артаньян по обыкновению произвел выкладку, и у него получилось, что час равняется шестидесяти минутам, а минута шестидесяти секундам. Благодаря этому совершенно правильному вычислению минут и секунд он подошел к дверям дома суперинтенданта как раз в тот момент, когда солдат выходил оттуда с пустым поясом.
Консьерж в расшитом кафтане приоткрыл перед ним дверь. Д’Артаньяну очень хотелось войти без доклада, но это было немыслимо. Он назвал себя. Казалось, это должно было уничтожить всякие затруднения, как по крайней мере думал д’Артаньян, но консьерж колебался. Однако, вторично услышав слова «капитан королевской гвардии», он перестал загораживать дверь, хотя и не давал дороги.
Д’Артаньян понял, что слуге был дан строжайший приказ. Он решил поэтому солгать, что, впрочем, не стоило ему большого труда в тех случаях, когда он видел во лжи государственную пользу или даже просто личную выгоду. Поэтому он добавил, что это он послал солдата, доставившего письмо г-ну дю Валлону, и что в этом письме сообщается о его личном прибытии. После этого двери раскрылись настежь, и д’Артаньян вошел.
Его хотел проводить лакей, но д’Артаньян заявил, что это лишнее, ибо он прекрасно знает, как пройти к г-ну дю Валлону. Человеку столь хорошо осведомленному возражать было нечего. И д’Артаньян получил свободу действий.
Подъезды, салоны, сады — все было осмотрено мушкетером. Добрые четверть часа он бродил по этому более чем королевскому дворцу, где каждая вещь была чудом и где было столько же слуг, сколько колонн и дверей.
«Положительно, — сказал он себе, — этим комнатам нет конца… Может быть, Портос вернулся в Пьерфон, не выходя из дома господина Фуке?»
Наконец д’Артаньян зашел в дальнюю часть дворца, которая была опоясана каменной оградой, увитой декоративными растениями со множеством пышных цветов.
На равных расстояниях друг от друга по ограде поднимались статуи. Весталки, закутанные в пеплумы, падавшие широкими складками, как бы стояли на страже, устремляя на дворец свои робкие взгляды. Гермес, прижавший палец к губам, Ирида, расправившая крылья, ночь со снопом маков высились над садами и постройками, белели на фоне высоких черных кипарисов, тянувшихся вершинами к небу.
Вокруг кипарисов росли розы, цеплявшиеся своими цветущими ветками за каждый сучок и осыпавшие статуи дождем благоуханных лепестков.
Эта волшебная красота настроила мушкетера на поэтический лад. Мысль, что Портос живет в таком раю, возвышала Портоса в его глазах.
Д’Артаньян увидел дверь и нажал на ручку. Дверь открылась. Он вошел и оказался в круглом павильоне, где не было слышно ничего, кроме журчания фонтана и пения птиц.
У дверей павильона мушкетера встретил лакей.
— Здесь живет барон дю Валлон? — решительным тоном спросил д’Артаньян.
— Да, сударь, — отвечал лакей.
— Доложите ему, что его ждет шевалье д’Артаньян, капитан мушкетеров его величества.
Д’Артаньяна ввели в салон. Ему не пришлось долго ждать: вскоре пол соседней залы задрожал под хорошо знакомыми шагами, дверь распахнулась, и Портос с некоторым смущением бросился в объятия своего друга.
— Вы здесь? — воскликнул он.
— А вы? — отвечал д’Артаньян. — Ах, хитрец!
— Да, — со смущенной улыбкой сказал Портос. — Да, вы находите меня у господина Фуке, и это вас немного удивляет?
— Ничуть; почему бы вам не быть другом господина Фуке? У господина Фуке много друзей, особенно среди людей умных.
Портос из скромности не принял этого комплимента на свой счет.
— К тому же, — прибавил он, — вы меня видели в Бель-Иле.
— Лишнее основание считать вас другом господина Фуке.
— Я просто знаком с ним, — протянул Портос с некоторым замешательством.
— Ах, друг мой, как вы провинились передо мной!
— Чем? — воскликнул Портос.
— Как! Вы работаете над возведением укреплений Бель-Иля и ни слова не сообщаете мне об этом.
Портос покраснел.
— Больше того, — продолжал д’Артаньян, — вы меня встречаете там; вы знаете, что я на службе у короля, и не догадываетесь, что король, жаждущий узнать, что это за замечательный человек возводит сооружения, о которых ему рассказывают чудеса, — не догадываетесь, что король послал меня собрать сведения об этом человеке.
— Как, король послал вас собрать сведения?
— Разумеется! Но не будем говорить об этом.
— Черт побери! — вскричал Портос. — Напротив, поговорим; значит, король знал, что Бель-Иль укрепляют?
— Еще бы! Королю все известно.
— А ведь не было же ему известно, кто возводил укрепления?
— Не было; но, судя по рассказам, он подозревал, что строит их какой-то замечательный воитель.
— Черт побери! Если бы я знал это!
— То вы не бежали бы из Ванна. Не правда ли?
— Нет. Что вы подумали, когда не нашли меня там?
— Я стал размышлять, дорогой мой.
— Ах, вот как… К чему же привели вас ваши размышления?
— Я догадался обо всем.
— Обо всем?
— Да.
— О чем же вы догадались? Послушаем, — сказал Портос, усаживаясь поудобнее в кресле.
— Прежде всего о том, что вы укрепляете Бель-Иль.
— Ах, это было не мудрено! Вы видели меня за работой.
— Погодите; я догадался еще кое о чем. А именно, что вы укрепляете Бель-Иль по приказанию господина Фуке.
— Совершенно верно.
— Еще не все. Раз начав догадываться, я не останавливаюсь на полдороге.
— Милый д’Артаньян!
— Я понял, что господин Фуке хочет держать эти работы в строжайшей тайне.
— Действительно, насколько мне известно, у него было такое намерение, — согласился Портос.
— Да, но известно ли вам, почему он хотел хранить все это в тайне?
— Да просто чтобы никто не знал об укреплении, черт возьми!
— Это во-первых. Но его желание было порождено также мыслью оказать любезность…
— Действительно, я слышал, что господин Фуке человек очень любезный.
— …мыслью оказать любезность королю.
— Вот как?
— Это вас удивляет?
— Да.
— Вы этого не знали?
— Нет.
— А я вот знаю.
— Значит, вы волшебник.
— Ничуть.
— Откуда же вы знаете в таком случае?
— Да очень просто. Я слышал, как господин Фуке сам говорил это королю.
— Что говорил?
— Что решил укрепить Бель-Иль и поднести его королю в подарок.
— Вы слышали, как господин Фуке говорил все это королю?
— Передаю его подлинные слова. Он даже прибавил: «Бель-Иль укреплен одним моим другом, замечательным инженером, и я попрошу позволения представить его королю». — «Его имя?» — спросил король. «Барон дю Валлон», — отвечал г-н Фуке. «Хорошо, — отвечал король, — вы мне представите его».
— Король так и отвечал?
— Слово д’Артаньяна!
— Но почему же в таком случае меня не представили? — удивился Портос.
— Разве вам не говорили об этом представлении?
— Говорили, но я все еще жду его.
— Не беспокойтесь, представят.
— Гм, гм! — проворчал Портос.
Д’Артаньян переменил тему разговора.
— Вы, по-видимому, живете очень уединенно, дорогой друг, — заметил он.
— Я всегда любил одиночество. Я меланхолик, — вздохнул Портос.
— Странно! — сказал д’Артаньян. — Я что-то не замечал этого раньше.
— Это у меня с тех пор, как я стал заниматься науками, — с озабоченным видом отвечал Портос.
— Надеюсь, что умственный труд не повредил телесному здоровью?
— О, нисколько.
— Силы не убавилось?
— Нисколько, друг мой, нисколько!
— Дело в том, что мне говорили, будто в первые дни по вашем приезде…
— Я не способен был шевельнуться, не правда ли?
— Как! — улыбнулся д’Артаньян. — Почему же вы не могли шевельнуться?
Портос понял, что сказал глупость, и захотел поправиться:
— Я приехал из Бель-Иля на плохих лошадях, и это утомило меня.
— Теперь меня не удивляет, что я видел на дороге семь или восемь павших лошадей, когда ехал вслед за вами.
— Видите ли, я тяжел, — сказал Портос.
— Значит, вы были разбиты?
— Жир мой растопился, вот я и заболел.
— Бедный Портос… Ну а как обошелся с вами Арамис?
— Отлично… Он поручил меня попечению личного врача господина Фуке. Но представьте, что через неделю я стал задыхаться.
— Как так?
— Комната была слишком мала; я поглощал слишком много воздуха.
— Неужели?
— Так мне сказали по крайней мере… И меня перевели в другое помещение.
— И там вы вздохнули свободнее?
— Там мне стало гораздо лучше; но у меня не было никаких занятий, мне нечего было делать. Доктор уверял, что мне нельзя двигаться. Я же, напротив, чувствовал себя сильнее, чем когда-нибудь. От этого произошел один неприятный случай.
— Какой случай?
— Представьте себе, дорогой друг, что я взбунтовался против предписаний дурака доктора и решил выходить, понравится ему это или нет. Итак, я приказал прислуживавшему мне лакею принести платье.
— Вы, значит, были раздеты, мой бедный Портос?
— Нельзя сказать, чтобы совсем, на мне был великолепный халат. Лакей повиновался; я надел свое платье, которое стало мне слишком широко. Но вот странная вещь: ноги мои, напротив, увеличились.
— Да, понимаю.
— Сапоги сделались очень узкими.
— Значит, ваши ноги распухли?
— Вы угадали.
— Еще бы! И это вы называете неприятным случаем?
— Именно. Я рассуждал не так, как вы. Я сказал себе: «Если на мои ноги десять раз налезали эти сапоги, то нет никаких оснований думать, что они не налезут в одиннадцатый раз».
— На этот раз, милый Портос, позвольте мне заметить, что вы рассуждали нелогично.
— Словом, я уселся около перегородки и попробовал надеть правый сапог, я тянул его руками, подталкивал другой ногой, делал невероятные усилия, и вдруг оба ушка от сапога остались в моих руках, а нога устремилась вперед, как снаряд из катапульты.
— Из катапульты! Как вы сильны в фортификации, дорогой Портос!
— Итак, нога устремилась вперед, встретила на своем пути перегородку и пробила ее. Друг мой, мне показалось, что я, как Самсон, разрушил храм. Сколько при этом повалилось на пол картин, статуй, цветочных горшков, ковров, занавесей! Прямо невероятно!
— Неужели?
— Не считая того, что по другую сторону перегородки стояла этажерка с фарфором.
— И вы опрокинули ее?
— Да, она отлетела в другой конец комнаты. — Портос захохотал.
— Действительно, вы правы, это невероятно. — И д’Артаньян расхохотался вслед за Портосом.
Портос смеялся все громче.
— Я разбил фарфора, — продолжал он прерывающимся от смеха голосом, — больше чем на три тысячи франков, ха-ха-ха!..
— Великолепно!
— Не считая люстры, которая упала мне прямо на голову и разлетелась на тысячу кусков, ха-ха-ха!..
— На голову? — переспросил д’Артаньян, хватаясь за бока.
— Прямо на голову!
— И пробила вам череп?
— Нет, ведь я же сказал вам, что разлетелась люстра, она была стеклянная.
— Люстра была стеклянная?
— Да, из венецианского стекла. Редкость, дорогой мой, уникальная вещь и весила двести фунтов.
— И упала вам на голову?
— На… го…ло…ву… Представьте себе раззолоченный хрустальный шар с инкрустациями снизу, с рожками, из которых выходило пламя, когда люстру зажигали.
— Это понятно. Но тогда она не была зажжена?
— К счастью, нет, иначе я сгорел бы.
— И вы отделались только тем, что были придавлены?
— Нет.
— Как нет?
— Да так, люстра упала мне на череп. А у нас на макушке, по-видимому, необыкновенно крепкая кость.
— Кто это вам сказал, Портос?
— Доктор. Нечто вроде купола, который выдержал бы собор Парижской богоматери.
— Да что вы?
— Наверное, у всех людей череп устроен таким образом.
— Говорите за себя, дорогой друг; это у вас, а не у других череп устроен так.
— Возможно, — сказал самодовольно Портос. — Значит, вот, когда люстра упала на купол, который у нас на макушке, раздался шум вроде пушечного выстрела; хрусталь разбился, а я упал, весь облитый…
— Кровью? Бедный Портос!
— Нет, ароматным маслом, которое пахло превосходно, но чересчур сильно; я почувствовал головокружение от этого запаха. Вам приходилось испытывать что-нибудь подобное, д’Артаньян?
— Да, случалось, когда я нюхал ландыши. Итак, бедняга Портос, вы упали и были одурманены ароматом?
— Но самое удивительное — и врач клялся, что никогда не видывал ничего подобного…
— У вас все же, должно быть, вскочила шишка, — перебил д’Артаньян.
— Целых пять.
— Почему же пять?
— Да потому, что снизу на люстре было пять необыкновенно острых украшений.
— Ай!
— Эти пять украшений вонзились мне в волосы, которые у меня, как видите, очень густые.
— К счастью.
— И задели кожу. Но обратите внимание на одну странность — это могло случиться только со мной. Вместо впадин у меня вскочили шишки. Доктор не мог удовлетворительно объяснить мне это явление.
— Ну, так я вам объясню.
— Вы очень меня обяжете, — сказал Портос, моргая глазами, что служило у него признаком величайшего напряжения мысли.
— С тех пор, как ваш мозг предается изучению наук, серьезным вычислениям, он увеличился в объеме. Таким образом, ваша голова переполнена науками.
— Вы думаете?
— Я уверен в этом. От этого получается, что ваша черепная коробка не только не дает проникнуть в голову ничему постороннему, но, будучи переполненной, пользуется каждым случайным отверстием, чтобы выбрасывать наружу избыток.
— А-а-а! — протянул Портос, которому это объяснение показалось более толковым, чем объяснение врача.
— Пять выпуклостей, вызванных пятью украшениями люстры, были, конечно, пятью скоплениями научных знаний, вылезших наружу под действием внешних обстоятельств.
— Действительно! — обрадовался Портос. — Вот почему голова моя болела больше снаружи, чем внутри. Я вам признаюсь даже, что, надевая шляпу и нахлобучивая ее на голову энергично-грациозным ударом кулака, свойственным нам, военным, я испытывал иногда страшную боль, если не соразмерял как следует силу удара.
— Портос, я вам верю.
— И вот, дорогой друг, — продолжал великан, — господин Фуке, видя, что его дом недостаточно прочен для меня, решил отвести мне другое помещение. И меня перевели сюда.
— Это заповедный парк, не правда ли?
— Да.
— Парк свиданий, известный таинственными похождениями суперинтенданта.
— Не знаю; у меня тут не было ни свиданий, ни таинственных приключений; но мне позволено упражнять здесь свои мышцы, и, пользуясь этим разрешением, я вырываю деревья с корнями.
— Зачем?
— Чтобы размять руки и доставать птичьи гнезда; я нахожу, что так удобнее, чем карабкаться наверх.
— У вас пастушеские наклонности, как у Тирсиса, дорогой Портос.
— Да, я люблю птичьи яйца несравненно больше, чем куриные. Вы не можете себе представить, что за изысканное блюдо омлет из четырехсот или пятисот яиц канареек, зябликов, скворцов и дроздов!
— Как — из пятисот яиц? Это чудовищно!
— Все они умещаются в одной салатнице.
Д’Артаньян минут пять любовался Портосом, точно видел его впервые. Портос же расцветал под взглядами друга. Они сидели так несколько минут. Д’Артаньян смотрел, Портос блаженствовал. Д’Артаньян искал, по-видимому, новую тему для разговора.
— Вам здесь весело, Портос? — спросил он, найдя наконец эту тему.
— Не всегда.
— Ну, понятно; однако когда вам станет слишком скучно, что вы будете делать?
— О, я буду здесь недолго! Арамис ждет только, чтобы у меня исчезла последняя шишка, и тогда представит меня королю. Король, говорят, терпеть не может шишек.
— Значит, Арамис все еще в Париже?
— Нет.
— Где же он?
— В Фонтенбло.
— Один?
— С господином Фуке.
— Отлично. Но знаете ли…
— Нет. Скажите, и я буду знать.
— Мне кажется, что Арамис забывает вас.
— Вам так кажется?
— Там, видите ли, смеются, танцуют, пируют, распивают вина из подвалов господина Мазарини. Известно ли вам, что там каждый вечер дается балет?
— Черт возьми!
— Повторяю, ваш милый Арамис вас забывает.
— Очень может быть. Я сам иногда так думал.
— Если только этот хитрец не изменяет вам!
— О-о-о!..
— Вы знаете, этот Арамис — хитрая лисица.
— Да, но изменять мне…
— Послушайте: прежде всего он лишил вас свободы.
— Как это лишил свободы? Разве я не на свободе?
— Конечно, нет!
— Хотел бы я, чтобы вы мне доказали это.
— Ничего нет проще. Вы выходите на улицу?
— Никогда.
— Катаетесь верхом?
— Никогда.
— К вам допускают друзей?
— Никогда.
— Ну так, мой друг, кто никогда не выходит на улицу, кто никогда не катается верхом, кто никогда не видится с друзьями, тот лишен свободы.
— За что же Арамису лишать меня свободы?
— Будьте откровенны, Портос, — дружески попросил д’Артаньян.
— Я совершенно откровенен.
— Ведь это Арамис составил план укреплений Бель-Иля, не правда ли?
Портос покраснел.
— Да, — согласился он, — но он только и сделал, что начертил план.
— Именно, и я считаю, что это не бог весть какая важность.
— Я всецело разделяю ваше мнение.
— Отлично; я в восторге, что мы одинаково мыслим.
— Он даже никогда не приезжал в Бель-Иль, — сказал Портос.
— Вот видите!
— Напротив, я ездил к нему в Ванн, как вы могли видеть.
— Скажите лучше — как я видел. И вот в чем дело, дорогой Портос: Арамис, начертивший только план, желает, чтобы его считали инженером, вас же, построившего по камешку стены крепости и бастионы, он хочет низвести до степени простого строителя.
— Строителя — значит, каменщика?
— Да, именно каменщика.
— Который возится с известкой?
— Именно.
— Чернорабочего?
— Точно так.
— О, милейший Арамис думает, что ему все еще двадцать пять лет!
— Мало того, он думает, что вам пятьдесят.
— Хотел бы я его видеть за работой.
— Да.
— Старый хрыч, разбитый подагрой.
— Да.
— Больные почки.
— Да.
— Не хватает трех зубов.
— Четырех.
— Тогда как у меня, глядите!
И, раскрыв толстые губы, Портос продемонстрировал два ряда зубов, правда, потемнее снега, но чистых, твердых и крепких, как слоновая кость.
— Вы не можете себе представить, Портос, — сказал д’Артаньян, — какое внимание обращает король на зубы. Увидя ваши, я решился. Я вас представлю королю.
— Вы?
— А почему бы и нет? Разве вы думаете, что мое положение при дворе хуже, чем положение Арамиса?
— О нет!
— Думаете, что я хочу предъявить какие-нибудь права на укрепление Бель-Иля?
— О, конечно, нет!
— Значит, я действую только в ваших интересах.
— Не сомневаюсь в этом.
— Так вот, я — близкий друг короля; доказательством служит то, что когда он должен сказать кому-нибудь что-либо неприятное, я беру эту обязанность на себя…
— Но, милый друг, если вы меня представите…
— Дальше?
— Арамис рассердится.
— На меня?
— Нет, на меня.
— Но не все ли равно, кто вас представит: он или я, если вас должны представить?
— Мой парадный костюм еще не готов.
— Ваш костюм и теперь великолепен.
— Тот, что я заказал, во много раз наряднее.
— Берегитесь, король любит простоту.
— В таком случае я буду прост. Но что скажет господин Фуке, узнав, что я уехал?
— Разве вы дали слово не покидать место вашего заточения?
— Не совсем. Я только обещал не уходить отсюда без предупреждения.
— Подождите, мы еще вернемся к этому. У вас есть здесь какое-нибудь дело?
— У меня? Во всяком случае, ничего серьезного.
— Если только вы не являетесь посредником Арамиса в каком-либо важном деле.
— Даю вам слово, что нет.
— Вы понимаете, я говорю это только из участия к вам. Предположим, например, что на вас возложена обязанность пересылать Арамису письма, бумаги…
— Письма, да! Я посылаю ему кое-какие письма.
— Куда же?
— В Фонтенбло.
— И у вас есть такие письма?
— Но…
— Дайте мне договорить. У вас есть такие письма?
— Я только что получил одно.
— Интересное?
— Нужно думать.
— Вы, значит, их не читаете?
— Я не любопытен.
И Портос вынул из кармана письмо, принесенное солдатом, которое он не читал, но которое д’Артаньян уже прочел.
— Знаете, что нужно сделать? — спросил д’Артаньян.
— Да то, что я всегда делаю: отослать его.
— Вовсе нет.
— Что же: удержать его у себя?
— Опять не то. Разве вам не сказали, что это письмо важное?
— Очень важное.
— В таком случае вам нужно самому свезти его в Фонтенбло.
— Арамису?
— Да.
— Это правда.
— И так как король в Фонтенбло…
— То вы воспользуетесь этим случаем…
— То я воспользуюсь этим случаем, чтобы представить вас королю.
— Ах, черт побери, д’Артаньян, ну и изобретательный вы человек!
— Итак, вместо того чтобы посылать нашему другу более или менее верное донесение, мы сами отвезем ему письмо.
— Мне в голову это не приходило, а между тем это так просто.
— Вот почему, дорогой Портос, мы должны отправиться в путь немедленно.
— В самом деле, — согласился Портос, — чем скорее мы отправимся, тем меньше запоздает письмо к Арамису.
— Портос, вы рассуждаете, как Аристотель, и логика всегда приходит на помощь вашему воображению.
— Вы находите? — сказал Портос.
— Это следствие серьезных занятий, — отвечал д’Артаньян. — Ну, едем!
— А как же мое обещание господину Фуке?
— Какое?
— Не покидать Сен-Манде, не предупредив его.
— Ах, милый Портос, — улыбнулся д’Артаньян, — какой же вы мальчик!
— То есть?
— Вы ведь едете в Фонтенбло, не правда ли?
— Да.
— Вы там увидите господина Фуке?
— Да.
— Вероятно, у короля?
— У короля, — торжественно повторил Портос.
— В таком случае вы подойдете к нему и скажете: «Господин Фуке, имею честь предупредить вас, что я только что покинул Сен-Манде».
— И, — произнес Портос с той же торжественностью, — увидев меня в Фонтенбло у короля, господин Фуке не посмеет сказать, что я лгу.
— Дорогой Портос, я собирался открыть рот, чтобы сказать вам это самое; вы во всем опережаете меня. О, Портос, какой вы счастливец, время щадит вас!
— Да, не могу пожаловаться.
— Значит, все решено?
— Думаю, что да.
— Вас больше ничто не смущает?
— Думаю, что нет.
— Так я увожу вас?
— Отлично; я велю оседлать лошадей.
— Разве у вас есть здесь лошади?
— Целых пять.
— Которых вы взяли с собой из Пьерфона?
— Нет, мне их подарил господин Фуке.
— Дорогой Портос, нам не нужно пяти лошадей для двоих, к тому же у меня есть три лошади в Париже. Это составит восемь. Пожалуй, слишком много.
— Это было бы не много, если бы здесь находились мои люди; но, увы, их нет!
— Вы жалеете об этом?
— Я жалею о Мушкетоне, Мушкетона мне недостает.
— Чудное сердце, — сказал д’Артаньян, — но знаете что: оставьте ваших лошадей здесь, как вы оставили Мушкетона там.
— Почему же?
— Потому что впоследствии…
— Ну?
— Впоследствии, может быть, окажется лучше, что господин Фуке ничего не дарил вам.
— Не понимаю, — отвечал Портос.
— Вам незачем понимать.
— Однако…
— Потом я объясню вам все, Портос.
— Тут какая-то политика, держу пари.
— И самая тонкая.
При слове политика Портос опустил голову; подумав с минуту, он продолжал:
— Признаюсь вам, д’Артаньян, я не политик.
— О да, я ведь отлично это знаю.
— Никто этого не знает. Вы сами сказали мне это, храбрец из храбрецов.
— Что я вам сказал, Портос?
— Что на все свое время. Вы сказали мне это, и я узнал на опыте. Приходит пора, когда получаешь удары шпагой с меньшим удовольствием, чем в былое время.
— Да, это моя мысль.
— И моя тоже, хотя я не верю в смертельные удары.
— Однако вы же убивали?
— Да, но сам ни разу не был убит.
— Отличный довод.
— Итак, я не думаю, что умру от клинка шпаги или от ружейной пули.
— Значит, вы ничего не боитесь?.. Впрочем, может быть, воды?
— Нет, я плаваю, как выдра.
— Тогда, может быть, перемежающейся лихорадки?
— Я никогда не болел лихорадкой и думаю, что никогда не заболею. Но я вам сделаю одно признание. — И Портос понизил голос.
— Какое? — спросил д’Артаньян, тоже понизив голос.
— Я признаюсь вам, — повторил Портос, — что я до смерти боюсь политики.
— Да что вы? — воскликнул д’Артаньян.
— Тише! — сказал Портос громовым голосом. — Я видел его преосвященство господина кардинала де Ришелье и его преосвященство господина кардинала Мазарини; один держался красной политики, а другой — черной. Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой: первая привела на плаху господина де Марсильяка, де Ту, де Сен-Мара, де Шале, де Бутвиля, де Монморанси; вторая — множество фрондеров, к которым и мы принадлежали, дорогой мой.
— К которым, напротив, мы не принадлежали, — поправил д’Артаньян.
— Нет, принадлежали, потому что если я обнажал шпагу за кардинала, то наносил удары за короля!
— Дорогой Портос!
— Докончу. Я так боюсь политики, что, если под всем этим кроется политика, я немедленно возвращаюсь в Пьерфон.
— И вы будете совершенно правы. Но и я, дорогой Портос, терпеть не могу политики, говорю вам напрямик. Вы работали над укреплением Бель-Иля; король пожелал узнать имя талантливого инженера, производившего работу; вы застенчивы, как все люди дела. Может быть, Арамис хочет оставить вас в тени, но я увожу вас и громко заявляю всем о ваших заслугах; король награждает вас — вот и вся моя политика.
— О, такая политика мне по вкусу, — кивнул Портос, протягивая руку д’Артаньяну.
Но д’Артаньян знал руку Портоса; он знал, что рука обыкновенного человека, попав между пятью пальцами барона, не выходила оттуда без повреждений. Поэтому он протянул другу не руку, а кулак. Портос даже не заметил этого. Тотчас же они вышли из дому.
Стража пошепталась немного, было произнесено несколько слов, которые д’Артаньян понял, но не стал объяснять Портосу.
«Наш друг, — сказал он себе, — был попросту пленником Арамиса. Посмотрим, что произойдет, когда этот заговорщик окажется на свободе».
XI. Крыса и сыр
Д’Артаньян и Портос пошли пешком.
Когда д’Артаньян, переступив порог лавки «Золотой пестик», объявил Планше, что г-н дю Валлон путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел пером шляпы потолок, — что-то вроде тяжелого предчувствия омрачило удовольствия, которые Планше готовил себе на завтра. Но у нашего лавочника было золотое сердце, и, несмотря на внутреннее содрогание, тотчас же подавленное им, Планше принял Портоса сердечно и почтительно.
Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояние, отделявшее в те времена барона от торговца. Но мало-помалу он стал вести себя непринужденно, видя, с каким усердием и предупредительностью Планше хлопочет около него.
Особенно оценил он разрешение, или, вернее, предложение, запускать огромные руки в ящики с сушеными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалем и орехами, в пакеты со сластями. Вот почему, несмотря на приглашение Планше подняться на антресоли, Портос предпочел просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза.
Прекрасные провансальские винные ягоды, орехи из Фореста и туренские сливы развлекали Портоса в течение пяти часов подряд. Его зубы, как жернова, сокрушали орехи, скорлупу которых он сплевывал на пол, и она трещала под ногами всех, кто проходил мимо. Портос захватывал губами целую гроздь муската в полфунта весом и одним глотком отправлял ее в желудок.
Объятые ужасом приказчики только молча переглядывались, забившись в угол. Они не знали Портоса и никогда до сих пор не видели его. Порода титанов, носивших панцири и латы Гуго Капета, Филиппа-Августа и Франциска I, начинала исчезать. Поэтому они спрашивали себя, не людоед ли это из волшебных сказок, в ненасытном желудке которого исчезнет все содержимое магазина Планше вместе с бочками и ящиками.
Щелкая, жуя, грызя, кусая и глотая, Портос время от времени говорил бакалейщику:
— У вас славная торговля, дружище Планше.
— Он скоро обанкротится, если так будет продолжаться, — ворчал старший приказчик, которому Планше обещал передать магазин. В полном отчаянии он подошел к Портосу, заслонявшему путь к прилавку. Он надеялся, что Портос встанет и это движение отвлечет его от истребления сладостей.
— Что вам угодно, мой друг? — любезно спросил Портос.
— Я хотел бы пройти, сударь, если это не слишком побеспокоит вас.
— Справедливое желание, — сказал Портос, — и оно ничуть не обеспокоит меня.
И с этими словами он схватил приказчика за пояс, поднял на воздух, осторожно перенес через свои колени и поставил на землю. Он произвел эту операцию, улыбаясь все так же благодушно. У бедного малого от страха ноги подкосились, и он беспомощно опустился на мешок с пробками.
Однако, видя кротость великана, он набрался храбрости и сказал:
— Сударь, будьте осторожнее.
— Почему, друг мой? — спросил Портос.
— У вас внутри сейчас загорится.
— Как так? — удивился Портос.
— Все эти пряности разжигают, сударь.
— Какие?
— Изюм, орехи, миндаль.
— Да, но если миндаль, орехи, изюм разжигают…
— Несомненно, сударь.
— То мед освежает.
И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые полфунта.
— Мой друг, — сказал он, — теперь я попрошу у вас воды.
— Ведро, сударь? — с наивным видом спросил приказчик.
— Нет, довольно будет графина, — добродушно отвечал Портос.
И, поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Планше был неприятно поражен; чувства собственника и самолюбие заворочались в его сердце, но поскольку он свято чтил древние традиции гостеприимства, то притворился, что весь поглощен разговором с д’Артаньяном, и повторял без устали:
— Ах, сударь, какая радость!.. Ах, сударь, какая честь!..
— А в котором часу мы будем ужинать, Планше? — спросил Портос. — У меня уже аппетит разыгрался.
Старший приказчик всплеснул руками. Двое других забрались под прилавки, боясь, как бы Портос не потребовал свежего мяса.
— Мы здесь только слегка закусим, — успокоил их д’Артаньян, — а поужинаем в поместье Планше.
— Так мы едем в ваше поместье, Планше? — спросил Портос. — Тем лучше.
— Вы окажете мне большую честь, господин барон.
Слова господин барон произвели сильное впечатление на приказчиков, которые усмотрели в невероятном аппетите признак высокого происхождения. Титул успокоил их. Они никогда не слыхивали, чтобы людоеда величали господин барон.
— Я возьму в дорогу немного печенья, — небрежно сказал Портос. И с этими словами он высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана.
— Моя лавка спасена! — радостно воскликнул Планше.
— Да, как сыр, — подтвердил старший приказчик.
— Какой сыр?
— Голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку.
Планше осмотрел лавку и решил, что сравнение несколько преувеличено.
Старший приказчик понял, что происходит в уме хозяина.
— Беда, коли вернется, — сказал он ему.
— У вас есть фрукты? — спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска.
«Увы!» — подумал бакалейщик, бросая на д’Артаньяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил, однако, внимания.
После закуски пустились в путь.
Было уже поздно, когда трое всадников, выехавших из Парижа в шесть часов, добрались до Фонтенбло. Дорогой все были веселы. Общество Планше нравилось Портосу, потому что лавочник был с ним очень почтителен и с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы и гордость помещика.
Увидя, что его спутники разговорились между собой, д’Артаньян, бросив поводья, позабыл о Портосе и Планше и обо всем на свете. Луна мягко светила сквозь голубоватую листву деревьев. Травы благоухали, и лошади бежали бодро.
Портос и Планше добрались до заготовки сена. Планше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли, но что его детство прошло в Пикардии, среди роскошных лугов, где травы доходили человеку до пояса, и под зелеными яблонями с румяными плодами; поэтому он дал себе слово — разбогатев, тотчас вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал: поближе к земле, куда возвращаются все люди.
— Э, да вы скоро выходите в отставку, мой милый Планше? — сказал Портос.
— Как так?
— Мне сдается, что вы составляете себе маленький капиталец.
— Да, — отвечал Планше, — потихоньку.
— К чему же вы стремитесь и на какой цифре собираетесь остановиться?
— Сударь, — начал Планше, не отвечая на этот весьма интересный вопрос, — сударь, меня очень огорчает одна вещь.
— Какая же? — спросил Портос, оглядываясь, как будто желая отыскать вещь, огорчавшую Планше, и вручить ему ее.
— В прежние времена, — отвечал лавочник, — вы называли меня просто Планше, и тогда вы сказали бы: «К чему ты стремишься, Планше, и на какой цифре собираешься остановиться?»
— Конечно, конечно, в прежнее время я бы сказал так, — с некоторым смущением отвечал Портос, — но в прежние времена…
— В прежние времена я был лакеем господина д’Артаньяна, вы хотите сказать?
— Да.
— Но хотя я теперь не лакей его, я все же слуга; больше того, с тех пор…
— С тех пор, Планше?..
— С тех пор я имел честь быть его компаньоном.
— Как, — воскликнул Портос, — д’Артаньян занялся торговлей?
— И не думал, — откликнулся д’Артаньян, которого эти слова вывели из задумчивости; он вступил в разговор с ловкостью и быстротой, отличавшими все движения его ума и тела, — совсем не д’Артаньян занялся торговлей, а, напротив, Планше пустился в политику.
— Да, — с гордостью и удовлетворением подтвердил Планше, — мы вместе произвели маленькую операцию, которая принесла мне сто тысяч, а господину д’Артаньяну двести тысяч ливров.
— Вот как? — удивился Портос.
— Поэтому, господин барон, — продолжал лавочник, — прошу вас снова называть меня Планше, как в прежние времена, и говорить мне «ты». Вы не поверите, какое удовольствие доставит мне это!
— Если так, я согласен, дорогой Планше, — отвечал Портос.
И он поднял руку, чтобы дружески похлопать Планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась, и это движение помешало намерению всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел.
Д’Артаньян расхохотался и стал вслух высказывать свои мысли:
— Берегись, Планше; если Портос очень полюбит тебя, он будет тебя ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится: Портос остался таким же Геркулесом, как был.
— Но ведь Мушкетон до сих пор жив, — сказал Планше, — а между тем господин барон его очень любит.
— Конечно, — подтвердил Портос со вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы, — и еще сегодня утром я говорил д’Артаньяну, как мне скучно без него. Но скажи мне, Планше…
— Спасибо, господин барон, спасибо.
— Какой ты славный малый! Скажи, сколько у тебя десятин под парком?
— Под парком?
— Да. Потом мы сосчитаем луга и леса.
— Где это, сударь?
— В твоем поместье.
— Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон.
— Что же тогда у тебя есть, — спросил Портос, — и почему ты говоришь о своем поместье?
— Я не говорил о поместье, господин барон, — возразил немного пристыженный Планше, — а просто об усадебке.
— А, понимаю, — сказал Портос, — ты скромничаешь.
— Нет, господин барон, я говорю сущую правду: у меня две комнаты для друзей, вот и все.
— Где же тогда гуляют твои друзья?
— Прежде всего в королевском лесу; там очень хорошо.
— Да, это прекрасный лес, — согласился Портос, — почти такой же, как мой лес в Берри.
Планше вытаращил глаза.
— У вас есть такой лес, как в Фонтенбло, господин барон? — пролепетал он.
— Целых два, но лес в Берри я люблю больше.
— Почему? — учтиво спросил Планше.
— Прежде всего потому, что я не знаю, где он кончается, а потом — он полон браконьеров.
— А почему же это изобилие браконьеров делает лес таким для вас приятным?
— Потому, что они охотятся на мою дичь, а я на них, так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре.
В этот момент Планше поднял голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты которых блестели при луне, как чешуйки исполинской рыбы.
— Господа, — возгласил Планше, — имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло.
XII. В поместье Планше
Всадники подняли головы и убедились, что Планше сказал совершенную правду.
Через десять минут они были на Лионской улице, напротив гостиницы «Красивый павлин». Высокая изгородь из густых кустов бузины, боярышника и хмеля образовывала черную непроходимую преграду, за которой виднелся белый дом с черепичной крышей.
Два окна этого дома выходили на улицу. Света в них не было. Между ними виднелась маленькая дверь под навесом, опиравшимся на колонки.
Планше соскочил с коня, как бы собираясь постучать в эту дверь; потом раздумал, взял свою лошадь под уздцы и прошел еще шагов тридцать. Его спутники поехали за ним.
Подойдя к воротам, Планше поднял деревянную щеколду, единственный их запор, и толкнул одну из створок. После этого он ступил в небольшой дворик и ввел за собой лошадь; крепкий запах навоза говорил, что где-то неподалеку стойло.
— Здорово пахнет, — звучно произнес Портос, в свою очередь, соскакивая с коня, — право, я готов подумать, что попал в свой пьерфонский коровник.
— У меня только одна корова, — поспешил скромно заметить Планше.
— А у меня тридцать, или, вернее, я не считал.
Когда оба всадника были во дворе, Планше закрыл за ними ворота.
Соскочив с седла с обычной ловкостью, д’Артаньян жадно вдыхал деревенский воздух и радостно срывал одной рукой веточки жимолости, а другой шиповник, как парижанин, попавший на лоно природы. Портос принялся обеими руками обирать стручки гороха, вившегося по жердям, и тут же уничтожал его вместе с шелухой.
Планше растолкал какого-то старого калеку, покрытого тряпьем, который спал под навесом на груде мха. Узнав Планше, старик стал величать его наш хозяин , к большому удовлетворению лавочника.
— Отведи-ка лошадей в конюшню, старина, да хорошенько накорми их, — сказал Планше.
— Да, славные кони, — заговорил старик, — нужно накормить их до отвала.
— Не очень усердствуй, дружище, — заметил ему д’Артаньян, — довольно будет охапки соломы да овса.
— И студеной воды моему скакуну, — добавил Портос, — мне кажется, что ему жарко.
— Не беспокойтесь, господа, — заявил Планше, — папаша Селестен — бывший кавалерист. Он умеет обращаться с лошадьми. Пожалуйте в комнаты.
И он повел друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и, наконец, приводившей к садику, за которым виднелся дом, чей фасад выходил на улицу.
По мере приближения к дому можно было через открытые окна нижнего этажа рассмотреть внутренность комнаты, так сказать, приемной поместья Планше.
Комната мягко освещалась лампой, стоявшей на столе и видной издали, и казалась воплощением приветливости, спокойствия, достатка и счастья. Всюду, куда падал свет от лампы, — на старинный ли фаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, — играли блестящие точки.
В окна заглядывали ветви жасмина, стол был покрыт ослепительно белой камчатной скатертью. На скатерти стояли два прибора. Желтоватое вино отливало янтарем на гранях хрустального графина, и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром.
Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет тридцати. Ее цветущее лицо сияло здоровьем и свежестью. На коленях у нее лежала большая кошка, свернувшись клубочком, и громко мурлыкала, что, в сочетании с полузакрытыми глазами, означало на кошачьем языке: «Я совершенно счастлива».
Друзья остановились перед окном, остолбенев от изумления. Увидя выражение их лиц, Планше почувствовал себя польщенным.
— Ах, проказник Планше, — засмеялся д’Артаньян, — теперь я понимаю причину твоих отлучек!
— Ого, какая белая скатерть, — прогремел Портос.
При звуке этого голоса кошка умчалась, хозяйка моментально проснулась, и Планше любезно провел гостей в комнату с накрытым столом.
— Позвольте мне, дорогая, — сказал он, — представить вам шевалье д’Артаньяна, моего покровителя.
Д’Артаньян взял руку дамы с галантностью придворного кавалера, как если бы он был представлен принцессе.
— Господин барон дю Валлон де Брасье де Пьерфон, — продолжал Планше.
Портос, в свою очередь, отвесил поклон, которым осталась бы довольна сама Анна Австрийская.
Теперь наступила очередь Планше. Он без стеснения поцеловал даму, впрочем, предварительно испросив знаком позволения у д’Артаньяна и Портоса. Позволение, конечно, было дано.
Д’Артаньян улыбнулся Планше:
— Вот человек, который умеет жить!
— Сударь, — со смехом отвечал Планше, — жизнь — капитал, и человек должен помещать его самым выгодным образом.
— И ты получаешь с него огромные проценты, — захохотал Портос так, что стены задрожали.
Планше снова подошел к своей хозяйке:
— Дорогая, вот эти два человека долго руководили моей жизнью. Я не раз говорил вам о них.
— И упоминали еще два имени, — произнесла дама с заметным фламандским акцентом.
— Мадам — голландка? — спросил д’Артаньян.
— Я из Антверпена, — отвечала дама.
— И она называется мадам Гехтер, — добавил Планше.
— Не называйте так мадам, — сказал д’Артаньян.
— Почему? — спросил Планше.
— Потому что это имя старит ее.
— Я зову ее Трюшен14От глагола trucher (фр.) — попрошайничать, жульничать..
— Очаровательное имя, — вздохнул Портос.
— Трюшен, — продолжал Планше, — приехала ко мне из Фландрии со своими добродетелями и двумя тысячами флоринов. Она бежала от несносного мужа, который ее бил. Как уроженец Пикардии, я всегда любил артуазок. От Артуа до Фландрии один только шаг. Она приезжала жаловаться и плакать к своему крестному, лавочнику на Ломбардской улице, где я теперь торгую; она поместила в мое дело две тысячи флоринов, я их умножил, и вот теперь она получает десять тысяч.
— Браво, Планше!
— Она свободна, богата, у нее есть корова, она командует служанкой и папашей Селестеном. Все мои рубашки вытканы ею, зимой она вяжет мне чулки, видится со мной каждые две недели и так мила, что считает себя счастливой.
— Я действительно счастлива… — кивнула Трюшен.
Портос стал крутить ус.
«Ах черт, — подумал д’Артаньян, — что это затевает Портос?..»
Между тем Трюшен, сообразив, в чем дело, пошла торопить кухарку, принесла еще два прибора и уставила стол изысканными кушаньями, превратившими ужин в пир. Сливочное масло, солонина, анчоусы, тунец, затем все товары из лавки Планше. Цыплята, овощи, речная рыба, лесная дичь — словом, все, что может дать деревня. Вдобавок Планше вернулся из погреба с десятью бутылками, покрытыми густым слоем пыли.
Их вид обрадовал сердце Портоса.
— Я голоден! — воскликнул он.
И уселся подле г-жи Трюшен, бросая на нее убийственные взгляды. Д’Артаньян сел по другую сторону от нее. Осчастливленный Планше скромно поместился напротив.
— Не досадуйте, — сказал он, — если во время ужина Трюшен часто будет вставать из-за стола: она желает, чтобы вам как следует были приготовлены постели.
Действительно, хозяйка много раз поднималась наверх, и со второго этажа доносился скрип передвигаемых кроватей. А трое мужчин ели и пили; особенно усердствовал Портос. Было любо смотреть на них. От десяти бутылок осталось лишь одно воспоминание, когда Трюшен вернулась с сыром.
Несмотря на выпитое вино, д’Артаньян сохранил все свое самообладание. Портос же, напротив, в значительной степени утратил его. Гости затянули песню, вспоминали бои и сражения. Д’Артаньян посоветовал Планше снова совершить путешествие в погреб. И так как лавочник потерял способность маршировать, как пехотинец, то капитан мушкетеров предложил проводить его.
Итак, они ушли, напевая песенки такими голосами, что испугался бы сам дьявол. Трюшен осталась за столом с Портосом. Когда двое любителей вин возились в темном погребе, выбирая лучшие бутылки, до них вдруг донеслось звонкое чмоканье.
«Портос вообразил, что он в Ла-Рошели», — подумал д’Артаньян.
Они поднялись, нагруженные бутылками. Планше так увлекся пением, что ничего не видел и не слышал. Д’Артаньян же сохранил остроту зрения и ясно заметил, что левая щека Трюшен была гораздо краснее, чем правая. А Портос молодцевато улыбался и обеими руками крутил усы. Трюшен тоже улыбалась великолепному сеньору.
Пенистое анжуйское вино превратило трех собутыльников сначала в трех чертей, а потом в три бревна. У д’Артаньяна едва хватило силы взять свечу и осветить Планше его собственную лестницу. Планше тащил Портоса, которого подталкивала также развеселившаяся Трюшен.
Д’Артаньяну принадлежала честь нахождения комнаты и кроватей. Портос повалился в постель, и его друг с трудом раздел его. Лежа в постели, д’Артаньян говорил себе:
«Ах, черт, ведь я клялся никогда больше не пить желтого вина, которое пахнет ружейным кремнем. Фи! Что, если бы мои мушкетеры увидели своего капитана в таком состоянии? — И, задвигая полог, прибавил: — К счастью, они ничего не увидят».
Трюшен унесла на руках Планше, раздела его, задернула полог и закрыла двери спальни.
— Веселая вещь деревня, — говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отвалилась спинка кровати, но на этот шум никто не обратил внимания, так весело было в поместье Планше.
В два часа ночи все в доме храпели.
XIII. Что видно из дома Планше
На следующее утро трое героев спали крепким сном.
Трюшен предусмотрительно закрыла ставни, боясь, как бы первые солнечные лучи не повредили уставшим глазам.
Поэтому под пологом Портоса и балдахином Планше было темно, как в погребе, когда д’Артаньяна разбудил нескромный луч, проникший через ставни; он мигом соскочил с кровати, точно собираясь идти первым на приступ. И он приступом взял комнату Портоса, которая была рядом с его спальней. Портос крепко спал и храпел так, что стены дрожали. Он пышно раскинулся всем своим исполинским телом, свесив сжатую в кулак руку на ковер подле кровати. Д’Артаньян разбудил Портоса, который с трудом стал протирать глаза.
Тем временем Планше оделся и пришел приветствовать своих гостей, которые после вчерашнего вечера еще нетвердо держались на ногах.
Несмотря на раннее утро, весь дом был уже полон суеты: кухарка устроила безжалостную резню в птичнике, а папаша Селестен рвал в саду вишни.
Портос в игривом настроении протянул руку Планше, а д’Артаньян попросил позволения поцеловать мадам Трюшен, которая не сочла возможным отказать в этой просьбе. Фламандка подошла к Портосу и так же благосклонно разрешила поцеловать себя. Портос поцеловал мадам Трюшен с глубоким вздохом.
После этого Планше взял друзей за руки:
— Я покажу вам свой дом; вчера вечером было темно, как в печи, и мы ничего не могли рассмотреть. При свете дня все меняется, и вы останетесь довольны.
— Начнем с перспективы, — предложил д’Артаньян, — вид из окна прельщает меня больше всего. Я всегда жил в королевских домах, а короли недурно выбирают пейзажи.
— Я тоже всегда любил виды, — подхватил Портос. — В моем пьерфонском поместье я велел прорубить четыре аллеи, с которых открывается великолепная перспектива.
— Вот вы сейчас увидите мою перспективу, — сказал Планше.
И он подвел гостей к окну.
— Да это Лионская улица, — удивился д’Артаньян.
— На нее выходит два окна, вид неказистый: одна только харчевня, вечно оживленная и шумная, соседство не из приятных. У меня выходило на улицу четыре окна, два я заделал.
— Пойдем дальше, — сказал д’Артаньян.
Они вернулись в коридор, который вел в комнаты, и Планше открыл ставни.
— Э, да что же это? — спросил Портос.
— Лес, — отвечал Планше. — На горизонте вечно меняющая цвет полоса, желтоватая весной, зеленая летом, красная осенью и белая зимой.
— Отлично, но эта завеса мешает смотреть дальше.
— Да, — сказал Планше, — но отсюда видно…
— Ах, это широкое поле… — протянул Портос. — Что это там? Кресты, камни…
— Да это кладбище! — воскликнул д’Артаньян.
— Именно, — подтвердил Планше. — Уверяю вас, что смотреть на него очень интересно. Не проходит дня, чтобы здесь не зарыли кого-нибудь. Фонтенбло довольно густо населен. Иногда приходят девушки, одетые в белое, с хоругвями, иногда богатые горожане с певчими, иногда придворные офицеры.
— Мне это не по вкусу, — поморщился Портос.
— Да, это не очень весело, — согласился д’Артаньян.
— Уверяю вас, что кладбище навевает святые мысли, — возразил Планше.
— О, не спорю!
— Ведь всем нам придется помереть, — продолжал Планше, — и где-то я прочел изречение, которое мне запомнилось: «Мысль о смерти — благотворная мысль».
— Да, это так, — вздохнул Портос.
— Однако, — заметил д’Артаньян, — мысль о зелени, цветах, реках, голубом небе и широких долинах тоже благотворная мысль…
— Если бы у меня все это было, я ни от чего бы не отказался, — сказал Планше, — но так как в моем распоряжении только это маленькое кладбище, тоже цветущее, мшистое, тенистое и тихое, то я им довольствуюсь и размышляю, например, о горожанах, живущих на Ломбардской улице, которые слышат ежедневно только грохот двух тысяч телег да шлепанье по грязи пятидесяти тысяч прохожих.
— Не буду вам возражать, — кивнул Портос.
— Именно поэтому, — скромно улыбнулся Планше, — я и отдыхаю немного при виде мертвых.
— Экий молодчина этот Планше, — воскликнул д’Артаньян, — он положительно рожден поэтом и лавочником!
— Сударь, — сказал Планше, — я из тех людей, которые созданы, чтобы радоваться всему, что они встречают на своем земном пути.
Д’Артаньян уселся на подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше.
— Да, никак, нам сейчас покажут комедию! — закричал Портос. — Я как будто бы слышу пение.
— Да, да, поют, — подтвердил д’Артаньян.
— Это похороны по последнему разряду, — пренебрежительно взглянул Планше. — На кладбище только священник, причетник и один певчий. Вы видите, господа, что покойник или покойница были не принцы.
— И никто не провожает покойника.
— Нет, вон идет кто-то, — показал Портос.
— Верно, какой-то человек в плаще, — подтвердил д’Артаньян.
— Не стоит смотреть, — сказал Планше.
— А мне интересно, — с живостью перебил его д’Артаньян, облокачиваясь на подоконник.
— Ага, вы входите во вкус, — весело проговорил Планше. — Вот и со мной так было: в первые дни мне было грустно креститься с утра до вечера, а заунывное пение вонзалось мне в мозг, как гвоздь. Теперь это пение баюкает меня, и я нигде не видел таких красивых птичек, как на кладбище.
— Ну, а мне не весело, — заявил Портос, — я лучше спущусь.
Планше одним прыжком оказался подле Портоса и, предложив ему руку, пригласил в сад.
— Как, вы остаетесь здесь? — обратился Портос к д’Артаньяну.
— Да, мой друг; я скоро приду к вам.
— О, господин д’Артаньян не останется в убытке! — заметил Планше. — Уже хоронят?
— Нет еще.
— Ах да, могильщик ждет, чтобы гроб обвязали веревками… Глядите-ка, на другом конце кладбища показалась женщина.
— Да, да, Планше! — живо проговорил д’Артаньян. — А теперь оставь меня, оставь! Я начинаю погружаться в душеспасительные размышления, не мешай мне.
Планше ушел, а д’Артаньян из-за полуоткрытой ставни стал с любопытством наблюдать за похоронами.
Двое могильщиков сняли гроб с носилок и опустили ношу в яму.
Человек в плаще, единственный зритель этой мрачной сцены, стоял в нескольких шагах, прислонившись спиной к высокому кипарису и тщательно закрыв лицо от могильщиков и духовенства. Похороны были совершены в какие-нибудь пять минут. Могилу засыпали, церковный причт двинулся в обратный путь. Могильщик сказал священнику несколько слов и тоже ушел. Человек в плаще поклонился проходящим и положил в руку могильщика монету.
— Что за чудеса! — пробормотал д’Артаньян. — Ведь это Арамис!
Арамис (это был действительно он) остался один. Однако ненадолго, потому что едва он отвернулся, как близ него на дороге послышались шаги и шелест женского платья. Он тотчас же с церемонной вежливостью снял шляпу и проводил даму под тень каштанов и лип, посаженных у чьей-то роскошной гробницы.
— О, да, никак, епископ ваннский назначил свидание! — промолвил д’Артаньян. — Он все тот же аббат Арамис, который бегал за женщинами в Нуази-ле-Сек. Да, — прибавил мушкетер, — странное, однако, свидание на кладбище.
И он расхохотался.
Разговор продолжался больше получаса. Д’Артаньян не мог разглядеть лица дамы, потому что она стояла к нему спиной. Но по неподвижности собеседников, по размеренности их жестов, по их сдержанности он понял, что они говорили не о любви. По окончании разговора дама низко поклонилась Арамису.
— Э, да у них кончается, как настоящее любовное свидание… сначала кавалер преклоняет колено; потом смиряется дама и о чем-то молит его… Кто же эта дама? Я пожертвовал бы ногтем, чтобы увидеть ее.
Но увидеть ее было невозможно. Арамис пошел вперед; женщина опустила вуаль и пошла вслед за ним. Д’Артаньян не мог больше выдержать: он подбежал к окну, выходившему на Лионскую улицу. Арамис вошел в гостиницу.
Дама направилась в противоположную сторону, должно быть, к карете, запряженной парой, которая виднелась у опушки леса. Она шла медленно, опустив голову, в глубокой задумчивости.
— Мне во что бы то ни стало нужно узнать, кто эта женщина, — сказал мушкетер.
И без дальнейших колебаний он направился вслед за ней. По дороге он обдумывал, каким способом заставить ее поднять вуаль.
— Она не молода, — рассуждал д’Артаньян. — Это великосветская дама. Знакомая, ей-богу, знакомая походка.
Звон его шпор и шаги гулко раздавались на пустынной улице. Вдруг ему улыбнулась удача, на которую он не рассчитывал. Шум шагов встревожил даму. Она вообразила, что за ней кто-то гонится или следит — это, впрочем, было верно, — и оглянулась.
Д’Артаньян подскочил, словно ему в икры попал заряд дроби, и, круто повернувшись, прошептал:
— Госпожа де Шеврез.
Д’Артаньян во что бы то ни стало решился разузнать все. Он попросил папашу Селестена осведомиться у могильщика, кого хоронили сегодня утром.
— Бедного францисканского монаха, — последовал ответ, — у которого не было даже собаки, любившей его на земле и проводившей до последнего жилища.
«Если бы это было так, — подумал д’Артаньян, — Арамис не присутствовал бы на его похоронах. Его преосвященство епископ ваннский не отличается собачьей преданностью; а насчет собачьего чутья — другое дело».
XIV. Как Портос, Трюшен и Планше расстались друзьями благодаря д’Артаньяну
В доме Планше хорошо покушали. Портос сломал одну лестницу и два вишневых дерева, опустошил малиновые кусты, но никак не мог добраться до земляники, так как, по его словам, ему мешал пояс.
Трюшен, уже освоившаяся с великаном, сказала ему:
— Не пояс, а животик мешает вам нагибаться.
Восхищенный Портос поцеловал Трюшен, которая нарвала целую пригоршню земляники и клала ему ягоды в рот. Прибывший в это время д’Артаньян пожурил Портоса за лень и втихомолку пожалел Планше.
Портос отлично позавтракал. После еды он молвил, поглядывая на Трюшен:
— Мне здесь нравится.
Трюшен улыбнулась. Планше последовал ее примеру, но его улыбка вышла немного натянутой.
Тогда д’Артаньян обратился к Портосу:
— Роскошь, которою окружил вас Планше, не должна мешать вам, друг мой, помнить об истинной цели нашего путешествия в Фонтенбло.
— О моем представлении королю?
— Именно. Я сейчас пойду сделать необходимые приготовления. А вы, пожалуйста, останьтесь здесь.
— Хорошо, — согласился Портос.
Планше испуганно взглянул на д’Артаньяна.
— Вы уходите ненадолго? — спросил он.
— Нет, мой друг, и сегодня же вечером я избавлю тебя от обоих обременительных гостей.
— Как можно говорить так, господин д’Артаньян!
— Видишь ли, у тебя чудесное сердце, но очень маленький дом. Бывает, что у человека всего две десятины, а он может поместить короля и окружить его комфортом. Но ты не рожден вельможей, Планше.
— И господин Портос тоже, — пробормотал Планше.
— Он стал им, дорогой мой; вот уже двадцать лет он получает по сто тысяч ливров в год и пятьдесят лет является обладателем двух кулаков и спины, не имеющих равных во всей прекрасной Франции. Портос большой барин по сравнению с тобой, друг мой, и… я не продолжаю; ты достаточно умен.
— Нет, сударь, пожалуйста, продолжайте.
— Загляни в твой опустошенный сад, в твою пустую кладовую, в очищенный погреб, посмотри на сломанную кровать и на… мадам Трюшен.
— Ах боже мой! — воскликнул Планше.
— Портос, видишь ли, владеет тридцатью деревнями, в которых живет три сотни веселых вассалов, и к тому же Портос красавец.
— Ах боже мой! — повторил Планше.
— Мадам Трюшен превосходная женщина, — продолжал д’Артаньян, — береги ее, понимаешь?
И он похлопал лавочника по плечу.
В эту минуту Планше заметил, что Трюшен и Портос скрылись в беседке. Трюшен с чисто фламандским изяществом делала для Портоса серьги из вишен, а Портос таял от любви, как Самсон перед Далилой.
Планше схватил д’Артаньяна за руку и потащил его к беседке.
Нужно отдать справедливость Портосу, что он нисколько не смутился… по-видимому, он считал, что не делает ничего дурного. Трюшен тоже не смутилась, и это не понравилось Планше. Но он видывал в своей лавке много важных людей и научился спокойно выносить неприятности.
Он взял Портоса под руку и предложил ему посмотреть лошадей. Портос заявил, что он устал. Тогда Планше предложил барону дю Валлону отведать абрикотин собственного приготовления, который, по его уверению, был чудом искусства. Барон согласился.
Так весь день Планше принужден был угождать своему врагу. Он принес свой буфет в жертву своему самолюбию.
Д’Артаньян вернулся через два часа.
— Все приготовлено, — сказал он. — Я видел его величество перед отъездом на охоту; сегодня вечером король нас ждет.
— Король меня ждет? — вскричал Портос, выпрямляясь.
Сердце человеческое неустойчиво, как волна, и нужно признаться, что с этой минуты Портос перестал смотреть на мадам Трюшен с той нежностью, которая размягчила сердце фламандки.
Планше изо всех сил стал раздувать пламя его честолюбия. Он рассказал, или, вернее, оживил в памяти барона все блестящие дела последнего царствования: битвы, осады, торжественные церемонии. Он напомнил о роскоши англичан, об удачах трех храбрых приятелей и о том, как д’Артаньян, вначале самый скромный из них, в конце концов сделался их вожаком.
Он пробудил в Портосе энтузиазм, воскресив перед ним ушедшую молодость, он расхвалил душевное благородство этого большого барина и его священное уважение к правам дружбы; Планше был красноречив, Планше был искусен. Он очаровал Портоса, поверг в трепет Трюшен и заставил д’Артаньяна погрузиться в воспоминания.
В шесть часов мушкетер приказал готовить лошадей и велел Портосу одеваться. Он поблагодарил Планше за гостеприимство и бросил несколько слов насчет того, что для него можно будет подыскать какую-нибудь должность при дворе, что немедленно возвысило бы Планше в глазах Трюшен, ибо бедный лавочник, несмотря на всю свою доброту, щедрость и преданность, очень проиграл в сравнении с двумя знатными гостями.
Женщины всегда таковы: им страстно хочется того, чего у них нет, а добившись желаемого, они испытывают чувство разочарования.
Оказав такую услугу своему другу Планше, д’Артаньян тихонько шепнул Портосу:
— У вас, друг мой, очень красивое кольцо.
— Триста пистолей, — вздохнул Портос.
— Госпожа Трюшен будет лучше помнить вас, если вы оставите ей это кольцо.
Портос заколебался.
— Вы находите, что оно недостаточно красиво? — спросил мушкетер. — Я вас понимаю: такой важный барин, как вы, не может останавливаться в доме бывшего слуги, не заплатив ему щедро за гостеприимство. Но, поверьте мне, у Планше такое золотое сердце, что он забудет о вашем доходе в сто тысяч ливров.
— Мне хочется, — начал Портос, крайне польщенный этими словами, — подарить госпоже Трюшен небольшую ферму в Брасье; это тоже недурное колечко… двенадцать десятин.
— Это слишком, мой добрый Портос, слишком… Приберегите это для дальнейшего.
И, сняв с пальца Портоса брильянтовый перстень, д’Артаньян подошел к Трюшен.
— Сударыня, — начал он, — барон не знает, как упросить вас принять, из любви к нему, это колечко. Господин дю Валлон один из самых щедрых и скромных людей в мире. Он хотел подарить вам ферму в Брасье; я отсоветовал ему.
— Ах! — воскликнула Трюшен, пожирая глазами брильянт.
— Как вы щедры, барон! — вскричал растроганный Планше.
— Мой добрый друг! — пробормотал Портос, очень довольный тем, что д’Артаньян так хорошо выразил его мысль.
Эти восклицания явились патетической развязкой дня, который мог закончиться не очень приятно для Планше. В числе действующих лиц был д’Артаньян, а там, где д’Артаньян распоряжался, все кончалось по его вкусу и желанию.
Все облобызались. Благодаря щедрости барона Трюшен почувствовала свое настоящее место и, застенчиво краснея, подставила только лоб вельможе, с которым еще так недавно вела себя крайне фамильярно. Планше преисполнился скромности.
В припадке щедрости барон Портос охотно высыпал бы все содержимое своих карманов в руки кухарки и Селестена, но д’Артаньян остановил его.
— Теперь моя очередь, — сказал он.
И дал один пистоль служанке и два старику. Сам Гарпагон возрадовался бы и сделался щедрым, услышав благословения, которые они стали воссылать мушкетеру.
Д’Артаньян попросил Планше проводить его до замка и пригласил Портоса в свою комнату. Ему удалось проскользнуть незаметным для тех, с кем ему не хотелось встречаться.
XV. Представление Портоса
В тот же день, в семь часов вечера, король давал в большом салоне аудиенцию голландскому посланнику. Аудиенция продолжалась четверть часа. После этого Людовик принял нескольких дам и мужчин, недавно представленных ко двору. В уголке за колонной стояли Портос и д’Артаньян и, в ожидании своей очереди, тихонько разговаривали.
— Вы знаете новость? — спросил мушкетер Портоса.
— Нет.
— Вот взгляните-ка!
Портос поднялся на цыпочки и увидел г-на Фуке в парадном костюме; министр вел к королю Арамиса.
— Арамис! — воскликнул Портос.
— Господин Фуке представляет его королю.
— Ах! — вырвалось у Портоса.
— За укрепления Бель-Иля, — продолжал д’Артаньян.
— А я?
— Вы? Вы, как я уже имел честь сказать вам, вы — добряк Портос, святая простота; поэтому вас просят посторожить немного Сен-Манде.
— Ах! — снова вырвалось у Портоса.
— Но, к счастью, я здесь, — успокоил его д’Артаньян, — и сейчас наступит моя очередь.
В этот момент Фуке обратился к королю со следующими словами:
— Государь, прошу милости у вашего величества. Господин д’Эрбле не честолюбив, но он знает, что может быть полезным. Вашему величеству нужно иметь агента в Риме, человека могущественного; мы можем получить кардинальскую шапку для господина д’Эрбле.
Король ничего не говорил.
— Я редко докучаю просьбами вашему величеству, — сказал Фуке.
— Нужно подумать, — отвечал король, всегда выражавший так свои колебания.
На эти слова нечего было ответить.
Фуке и Арамис переглянулись.
Король продолжал:
— Господин д’Эрбле может также послужить нам во Франции, например, в качестве архиепископа.
— Государь, — возразил Фуке со свойственной ему галантностью, — ваше величество осыпает милостями господина д’Эрбле; архиепископство может служить дополнением к кардинальской шапке благодаря щедротам короля: одно не исключает другого.
Находчивость Фуке понравилась королю, он улыбнулся.
— Сам д’Артаньян не ответил бы лучше, — кивнул он.
Не успел король произнести это имя, как перед ним вырос д’Артаньян.
— Ваше величество зовет меня? — спросил он.
Арамис и Фуке отступили назад.
— Позвольте, государь, — начал д’Артаньян, выводя Портоса, — позвольте мне представить вашему величеству господина барона дю Валлона, одного из храбрейших дворян Франции.
Увидя Портоса, Арамис побледнел; Фуке сжал кулаки под кружевными манжетами.
— Портос здесь! — шепнул Фуке Арамису.
— Тсс! Измена! — отвечал тот.
— Государь, — продолжал д’Артаньян, — еще шесть лет тому назад мне следовало бы представить господина дю Валлона вашему величеству. Но некоторые люди подобны звездам: они не движутся без спутников. Плеяда не может разъединиться. Вот почему, представляя вам господина дю Валлона, я выбрал ту минуту, когда ваше величество можете видеть рядом с ним господина д’Эрбле.
Арамис едва сдерживался. Он гордо посмотрел на д’Артаньяна, принимая брошенный ему вызов.
— Вот как! Они друзья? — удивился король.
— Самые близкие, государь, и один отвечает за другого. Спросите у епископа ваннского, кем был укреплен Бель-Иль.
Фуке попятился еще дальше.
— Бель-Иль, — холодно подтвердил Арамис, — был укреплен бароном.
И он указал на Портоса, который вторично поклонился.
Людовик смотрел и глазам не верил.
— Да, — сказал д’Артаньян, — а теперь благоволите спросить у господина барона, кто помогал ему в его работах.
— Арамис, — откровенно заявил Портос и указал на епископа.
«Что все это значит, — подумал епископ, — и какая развязка будет у этой комедии?»
— Как! — воскликнул король. — Господин кардинал… я хотел сказать — епископ… называется Арамисом?
— Военное прозвище, — объяснил д’Артаньян.
— Дружеское, — поправил Арамис.
— Зачем скромничать? — вскричал д’Артаньян. — Под одеждой священника, государь, скрывается самый блестящий офицер, самый бесстрашный дворянин, самый ученый богослов вашего королевства.
Людовик поднял голову.
— И инженер! — добавил он, любуясь замечательным лицом Арамиса.
— Инженер по случаю, государь, — поклонился Арамис.
— Мой товарищ мушкетер, государь, — горячо сказал д’Артаньян, — советы которого сотни раз помогали министрам вашего отца… Словом, господин д’Эрбле вместе с господином дю Валлоном, мной и известным вашему величеству графом де Ла Фер… составляли квартет, о котором было много разговоров при покойном короле и во время несовершеннолетия вашего величества.
— И он укрепил Бель-Иль! — многозначительно повторил король.
Арамис выступил вперед.
— Чтобы послужить сыну, как я служил отцу, — закончил он.
Д’Артаньян не спускал с Арамиса глаз, когда тот произносил эти слова. Он уловил в них столько истинного почтения, столько горячей преданности, столько искренности, что он, д’Артаньян, вечный скептик, он, непогрешимый д’Артаньян, поверил.
«Таким тоном не лгут», — подумал он.
Людовик был тронут.
— В таком случае, — обратился он к Фуке, с тревогой ожидавшему конца этой сцены, — кардинальская шапка вам обеспечена. Даю вам слово, господин д’Эрбле, что, как только откроется вакансия, вы станете кардиналом. Поблагодарите господина Фуке.
Слова эти были услышаны Кольбером и больно ранили его сердце. Он поспешно вышел из зала.
— Теперь ваша очередь, господин дю Валлон, — повернулся к нему король, — просите… Я люблю награждать слуг моего отца.
— Государь… — начал Портос.
Продолжать он был не в состоянии.
— Государь! — воскликнул д’Артаньян. — Этот достойный дворянин подавлен величием вашей особы, несмотря на то что мужественно выносил огонь орудий тысячи неприятелей. Но я знаю, о чем он думает, и так как я больше привык смотреть на солнце, то я открою вам его мысли: ему ничего не нужно, он ничего не желает, кроме счастья созерцать ваше величество в течение четверти часа.
— Вы сегодня ужинаете со мной, — произнес король, с милостивой улыбкой поклонившись Портосу.
Портос побагровел от радости и гордости.
Король отпустил его, и д’Артаньян, поцеловав друга, отвел его в сторону.
— За столом садитесь возле меня, — шепнул ему на ухо Портос.
— Хорошо, мой друг.
— Арамис на меня дуется, не правда ли?
— Никогда в жизни Арамис не любил вас больше, чем сейчас. Подумайте только: я выхлопотал для него кардинальскую шапку!
— Это правда, — заметил Портос. — Кстати: король любит, когда за его столом много едят?
— Это ему льстит, — сказал д’Артаньян. — У него королевский аппетит.
— Я восхищен, — обрадовался Портос.
XVI. Объяснение
Арамис круто повернулся, подошел к Портосу, стоявшему за колонной, и пожал ему руку.
— Убежали из моей тюрьмы?
— Не браните его, — сказал д’Артаньян, — это я, дорогой Арамис, выпустил его на свободу.
— Друг мой! — произнес Арамис, глядя на Портоса. — Разве вы потеряли терпение?
Д’Артаньян пришел Портосу на выручку.
— Вы, духовные лица, — обратился он к Арамису, — большие политики. Мы же, военные, идем прямо к цели. Вот и все. Я навестил милейшего Безмо.
Арамис насторожился.
— Ах, вы напомнили мне, что у меня есть для вас письмо господина Безмо! — И Портос подал епископу знакомое нам письмо.
Арамис попросил позволения прочитать его и прочитал, не вызвав у д’Артаньяна ни малейшего беспокойства, так как содержание письма ему было известно. К тому же Арамис так хорошо владел собою, что, глядя на него, д’Артаньян не мог не восхищаться. Прочитав послание, Арамис положил его в карман с совершенно спокойным видом.
— Итак, дорогой капитан, вы сказали… — начал он.
— Я сказал, — продолжал мушкетер, — что сделал Безмо служебный визит.
— Служебный? — переспросил Арамис.
— Да, — отвечал д’Артаньян. — И понятно, мы разговаривали о вас и о наших друзьях. Должен заметить, что Безмо принял меня холодно. Я простился с ним. Когда я шел домой, меня остановил какой-то солдат и попросил (он, наверное, узнал меня, несмотря на мой штатский костюм): «Капитан, не сделаете ли вы мне одолжение прочитать адрес на этом письме». И я прочитал: «Господину дю Валлону, в Сен-Манде, у господина Фуке». «Вот как! — подумал я. — Портос не вернулся в Пьерфон или в Бель-Иль, как я предполагал, Портос живет в Сен-Манде у господина Фуке! Господина Фуке нет в Сен-Манде. Значит, Портос или один, или с Арамисом, навестим его». И я отправился к Портосу.
— Отлично! — рассеянно кивнул Арамис.
— Вы мне не рассказали этого, — укоризненно заметил Портос.
— Времени не было, друг мой.
— И вы увезли Портоса в Фонтенбло?
— К Планше.
— Планше живет в Фонтенбло? — удивился Арамис.
— Да, возле кладбища! — необдуманно выпалил Портос.
— Как, возле кладбища? — подозрительно спросил Арамис.
«Отлично, — подумал мушкетер, — воспользуемся замешательством, раз оно наступило».
— Да, возле кладбища, — подтвердил Портос. — Планше превосходный малый и варит отличное варенье, но окна его дома выходят на кладбище. Это действует угнетающе. Вот и сегодня утром…
— Сегодня утром?.. — спросил Арамис, волнуясь все больше и больше.
Д’Артаньян повернулся спиной и стал выстукивать на оконном стекле марш.
— Сегодня утром, — продолжал Портос, — мы видели похороны.
— Вот как!
— Ужасно грустное зрелище. Я бы не стал жить в доме, откуда постоянно видишь мертвецов… А вот д’Артаньяну это, кажется, нравится.
— Д’Артаньян тоже видел эту церемонию?
— Не то что видел — пожирал глазами.
Арамис вздрогнул и обернулся к мушкетеру, но тот завязал оживленный разговор с де Сент-Эньяном. Арамис продолжал расспрашивать Портоса; выжав весь сок из этого исполинского лимона, он бросил его, подошел к д’Артаньяну и, хлопнув его по плечу, сказал:
— Друг мой, мы не ужинаем у короля.
— А я ужинаю.
— Вы можете уделить мне десять минут?
— Хоть двадцать. Раньше его величество не сядет за стол.
— Где мы будем разговаривать?
— Хотя бы здесь, на скамейке: король ушел, значит, можно присесть, и в зале никого нет.
— Так присядем.
Они сели. Арамис взял д’Артаньяна за руку.
— Признайтесь, дорогой друг, — начал он, — что вы внушили Портосу некоторое недоверие ко мне.
— Охотно признаюсь, но не в том, в чем вы меня подозреваете. Я видел, что Портос смертельно скучает, и решил, представив его королю, сделать и для него и для вас то, чего вы никогда бы не сделали.
— Что же именно?
— Расхвалить вас в присутствии короля.
— Благодарю вас. Вы как нельзя лучше привели в исполнение свое решение.
— И приблизил к вам уже уплывавшую кардинальскую шапку.
— Признаюсь, — продолжал Арамис со странной улыбкой, — вы положительно незаменимый человек по части облагодетельствования своих друзей.
— Вы, значит, согласны, что я действовал только в интересах Портоса?
— Я тоже хотел позаботиться о нем, но у вас руки длиннее.
Теперь наступила очередь улыбнуться д’Артаньяну.
— Позвольте, — остановил его Арамис, — мы должны сказать друг другу всю правду. Любите ли вы меня по-прежнему, дорогой д’Артаньян?
— Именно по-прежнему, — отвечал д’Артаньян, не очень связывая себя этим ответом.
— В таком случае благодарю вас, и будем говорить друг с другом совершенно откровенно, — предложил Арамис. — Вы приезжали в Бель-Иль ради короля?
— Разумеется!
— Значит, вы хотели отнять у нас удовольствие поднести королю укрепленный Бель-Иль?
— Но, мой друг, чтобы отнять у вас удовольствие, мне нужно было предварительно знать о вашем намерении.
— Вы приезжали в Бель-Иль, ничего не зная?
— О вас — да! Скажите на милость, каким образом мог я предположить, что Арамис сделался инженером, способным строить укрепления, как Полибий или Архимед.
— Это верно. Однако вы догадались, что я там?
— О да.
— И Портос тоже?
— Дражайший, я не мог догадаться, что Арамис стал инженером. Я не мог догадаться, что им стал Портос. Один латинский писатель сказал: «Оратором делаются, поэтом родятся». Но он не говорил: «Портосом родятся, инженером делаются».
— Вы всегда отличались очаровательным остроумием, — холодно усмехнулся Арамис. — Но пойдем дальше.
— Пойдем.
— Узнав нашу тайну, вы поторопились сообщить ее королю?
— Я поторопился, милейший, увидев, что спешите вы. Когда человек, весящий двести пятьдесят восемь фунтов, как Портос, мчится на почтовых; когда прелат-подагрик (простите, вы сами сказали мне это) летит как ветер, — то у меня возникает подозрение, что двое моих друзей, не пожелавших предупредить меня, хотят скрыть от меня что-то очень важное, и, воля ваша, я тоже мчусь… насколько позволяют мне моя худоба и отсутствие подагры.
— Дорогой друг, а не подумали ли вы, что можете оказать мне и Портосу медвежью услугу?
— Очень подумал; но ведь и вы с Портосом заставили меня сыграть в Бель-Иле весьма незавидную роль.
— Простите меня, — сказал Арамис.
— И вы меня извините, — отвечал д’Артаньян.
— Словом, — продолжал Арамис, — вы теперь знаете все.
— Ей-богу, не все!
— Вы знаете, что мне пришлось немедленно предупредить господина Фуке, чтобы он опередил вас у короля.
— Тут что-то темное.
— Да нет же! У господина Фуке много врагов. Ведь вам это известно?
— О да!
— И один особенно опасный.
— Опасный?
— Смертельный! И с целью побороть влияние этого врага Фуке пришлось доказывать королю свою глубокую преданность и готовность идти на всякие жертвы. Он сделал его величеству сюрприз, подарив ему Бель-Иль. А если бы вы первый приехали в Париж, сюрприз был бы испорчен… Создалось бы впечатление, что мы испугались.
— Понимаю.
— Вот и вся тайна, — закончил Арамис, довольный тем, что ему удалось убедить мушкетера.
— Однако, — усмехнулся д’Артаньян, — проще было бы отвести меня в сторону, когда мы были в Бель-Иле, и сказать: «Дорогой друг, мы укрепляем Бель-Иль-ан-Мер, чтобы преподнести его королю… Сделайте нам одолжение и откройте, за кого вы: за господина Кольбера или за господина Фуке?» Может быть, я ничего не ответил бы; но если бы вы спросили: «А мне вы друг?» — я бы ответил: «Да».
Арамис опустил голову.
— Таким образом, — продолжал д’Артаньян, — я был бы обезоружен и, придя к королю, заявил бы: «Государь, господин Фуке укрепляет Бель-Иль, и укрепляет превосходно; но вот что поручил мне передать вашему величеству господин губернатор Бель-Иля». Или же: «Господин Фуке собирается посетить вас, чтобы сообщить о своих намерениях». Я не сыграл бы глупой роли, ваш сюрприз не был бы испорчен, и мы не косились бы друг на друга.
— А теперь, — сказал Арамис, — вы действовали как друг Кольбера. Значит, вы его друг?
— Ей-богу, нет! — воскликнул капитан. — Господин Кольбер педант, и я ненавижу его, как ненавидел Мазарини, но мне он не страшен.
— А я люблю господина Фуке, — заявил Арамис, — и предан ему. Вы знаете мое положение… Я был беден… Господин Фуке дал мне доход, выхлопотал епископство; господин Фуке оказал мне много услуг и был очень любезен со мной; я достаточно хорошо знаю свет, чтобы оценить доброе отношение к себе. Итак, господин Фуке завоевал мое сердце, и я отдал себя в его распоряжение.
— Превосходно. У вас прекрасный господин.
Арамис поджал губы.
— Я думаю, что лучшего не найти.
Последовало молчание. Д’Артаньян не нарушал его.
— Вы, наверное, знаете от Портоса, как он попал в эту историю?
— Нет, — ответил д’Артаньян — Я, правда, любопытен, но никогда не расспрашиваю друга, если он хочет скрыть от меня какую-нибудь тайну.
— Я сейчас расскажу вам это.
— Не стоит, если ваше признание свяжет меня.
— Не бойтесь. Я всегда очень любил Портоса за его простодушие и доброту; Портос человек прямой. С тех пор как я стал епископом, я ищу простодушных людей, которые внушают мне любовь к правде и ненависть к интригам.
Д’Артаньян погладил усы.
— Увидя Портоса, я постарался подойти к нему поближе. У него не было дела, его присутствие напоминало мне доброе старое время и отвлекало от дурных мыслей. Я позвал Портоса в Ванн. Господин Фуке любит меня; узнав, что Портос мой друг, он обещал похлопотать за него перед королем. Вот и вся тайна.
— Я не злоупотреблю ею, — улыбнулся д’Артаньян.
— Я хорошо это знаю, дорогой друг; никто не обладает в такой степени чувством истинной чести, как вы.
— Я польщен, Арамис.
— А теперь…
И прелат заглянул в самую душу своего друга.
— А теперь поговорим о себе. Хотите стать другом господина Фуке? Не перебивайте меня, прежде чем не узнаете, что я хочу сказать.
— Слушаю.
— Хотите сделаться маршалом Франции, пэром, герцогом, владеть герцогством с миллионным населением?
— Что же нужно сделать, друг мой, чтобы получить все это? — спросил д’Артаньян.
— Быть сторонником господина Фуке.
— Я сторонник короля, дорогой друг.
— Но не исключительно же, я думаю?
— Я не раздваиваюсь.
— Я полагаю, что вместе с большим сердцем у вас есть и некоторое честолюбие?
— Да, конечно.
— И следовательно…
— И следовательно, я желаю быть маршалом Франции; но маршалом, герцогом, пэром сделает меня король; король даст мне все это.
Арамис пристально взглянул на д’Артаньяна.
— Разве король не властелин? — спросил д’Артаньян.
— Никто этого не оспаривает. Только ведь Людовик Тринадцатый тоже был властелином.
— Да, дорогой, но между Ришелье и Людовиком Тринадцатым не было господина д’Артаньяна, — спокойно заметил мушкетер.
— Около короля, — продолжал Арамис, — много камней преткновения.
— Но не для короля.
— Конечно, однако…
— Послушайте, Арамис, я вижу, что здесь каждый думает о себе и никто не помышляет о государе; а я буду поддерживать себя, поддерживая его.
— А неблагодарность?
— Ее боятся только слабые!
— Вы очень уверены в себе.
— Кажется, да.
— Но, может быть, со временем вы перестанете быть нужным королю?
— Напротив, я думаю, что в будущем понадоблюсь ему больше, чем когда-либо. Слушайте, дорогой, если бы пришлось обуздать нового Конде, кто обуздал бы его? Вот это… только это во всей Франции! — И д’Артаньян похлопал по своей шпаге.
— Вы правы, — сказал Арамис, бледнея.
Он встал и пожал руку д’Артаньяну.
— Вот в последний раз зовут к ужину, — поднялся с места капитан мушкетеров. — Вы позволите…
Арамис обнял мушкетера:
— Такой друг, как вы, прекраснейшая жемчужина в королевской короне.
И они разошлись.
«Я так и думал, что это неспроста», — промелькнуло в голове д’Артаньяна.
«Нужно поскорее зажечь порох, — сказал про себя Арамис. — Д’Артаньян почуял подкоп».
XVII. Принцесса и де Гиш
Мы видели, что граф де Гиш вышел из залы в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес Лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею.
Некоторое время де Гиш прогуливался возле дворца, снедаемый подозрениями и тревогами. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса. У графа в его одиночестве вряд ли были веселые мысли. Он вынул из кармана записную книжку и после долгих колебаний написал:
«Принцесса, умоляю вас уделить мне несколько мгновений для разговора. Пусть вас не пугает эта просьба; она продиктована только глубоким почтением, с которым я и т. д. и т. д.».
Он подписал эту необычную просьбу и сложил листок вчетверо, но в этот момент заметил, что гости королевы начинают расходиться. Он увидел Лавальер, потом Монтале, которая разговаривала с Маликорном. Он пропустил всех гостей королевы-матери, только что наполнявших ее салон.
Принцесса не показывалась. Однако ей необходимо было пересечь этот двор для возвращения домой, и де Гиш внимательно наблюдал. Наконец он увидел принцессу; она шла с двумя пажами, освещавшими ей путь факелами; дойдя до двери, она крикнула:
— Пажи, ступайте узнать, где граф де Гиш. Он должен дать мне отчет в одном поручении. Если он свободен, попросите его прийти ко мне.
Де Гиш молчал, спрятавшись в тень. Но как только принцесса вошла к себе, он опрометью сбежал с террасы и с самым равнодушным видом двинулся навстречу пажам, которые направлялись в его комнату.
«Вот как, принцесса послала за мной!» — взволнованно подумал он и скомкал свою, теперь уже ненужную, записку.
— Граф! — сказал один из пажей, заметив его. — Мы очень рады, что встретили вас.
— Что вам угодно, господа?
— Мы по приказанию принцессы.
— По приказанию принцессы? — повторил де Гиш с притворным удивлением.
— Да. Ее высочество спрашивает вас: вы должны дать ей отчет в одном поручении. Вы свободны?
— Я весь к услугам ее высочества.
— В таком случае благоволите следовать за нами.
Поднявшись к принцессе, де Гиш увидел, что она бледна и взволнованна. У двери стояла Монтале, которой очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи.
— А, это вы, господин де Гиш, — начала принцесса, увидя графа, — прошу вас… Мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти.
Еще более заинтригованная Монтале поклонилась и ушла. Принцесса и де Гиш остались одни.
Все преимущества были на стороне графа: сама принцесса пригласила его на свидание. Но как мог граф воспользоваться этой милостью? Принцесса была так своенравна, характер ее был так изменчив. И она скоро обнаружила это; в самом начале разговора она вдруг спросила:
— Неужели вам нечего сказать мне, граф?
Ему показалось, что она угадала его мысли; ему показалось (влюбленные доверчивы и слепы, как поэты или пророки), ему показалось, будто она угадала его желание видеть ее и цель этого желания.
— Да, принцесса, — поклонился он, — я очень удивлен.
— Историей с браслетами? — перебила его принцесса. — Не правда ли?
— Да, принцесса.
— По-вашему, король влюблен? Скажите!
Де Гиш пристально посмотрел на нее, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим до самого сердца.
— По-моему, — отвечал он, — король, вероятно, хочет кого-то помучить, иначе он не стал бы так афишировать свои чувства; он не решился бы так спокойно компрометировать девушку, до сих пор вполне безупречную.
— Эту бесстыдницу? — высокомерно промолвила принцесса.
— Могу заверить ваше высочество, — с почтительной твердостью сказал де Гиш, — что мадемуазель де Лавальер любит человек, достойный всякого уважения.
— Уж не Бражелон ли?
— Да, принцесса. Он мой друг.
— А какое дело королю до того, что он ваш друг?
— Король знает, что Бражелон — жених мадемуазель де Лавальер; и так как Рауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья.
Принцесса звонко расхохоталась, и этот смех болезненно подействовал на де Гиша.
— Повторяю, принцесса, я не думаю, чтобы король был влюблен в Лавальер, и в доказательство этого я хочу спросить у вас, принцесса: чье самолюбие желал задеть его величество в данном случае? Вы знаете весь двор и поможете мне разрешить этот вопрос, тем более что, как уверяют, ваше высочество очень близки с королем.
Принцесса закусила губу и, не придумав ответа, изменила тему разговора.
— Докажите мне, — сказала она, глядя на графа тем взглядом, в который как будто была вложена вся душа, — докажите, что именно вы хотели поговорить со мной, хотя позвала вас я.
Де Гиш торжественно вынул свою записку и подал принцессе.
— Наши желания совпали.
— Да, — произнес граф с нежностью, которую он не мог подавить, — и я уже объяснил вам, зачем я хотел вас видеть; вы же, принцесса, еще не сказали, зачем вы потребовали меня к себе.
— Это правда.
Она колебалась.
— Я с ума схожу из-за этих браслетов, — молвила она вдруг.
— Вы ожидали, что король поднесет их вам? — спросил де Гиш.
— А почему бы и нет?
— Но ведь, принцесса, у короля, кроме вас, его невестки, есть еще супруга?
— А кроме Лавальер, — воскликнула уязвленная принцесса, — у него есть я! У него есть весь двор!
— Уверяю вас, принцесса, — почтительно поклонился граф, — что если бы кто-либо услышал ваши слова и увидел ваши красные глаза и — да простит меня бог — эту слезу, навернувшуюся на ваши ресницы… да, если бы кто увидел это, то сказал бы, что ваше высочество ревнует.
— Ревную! — надменно воскликнула принцесса. — Ревную к Лавальер?
Она рассчитывала смирить де Гиша этим высокомерным жестом и надменным тоном.
— Да, к Лавальер, принцесса! — смело повторил он.
— Кажется, сударь, вы позволяете себе оскорблять меня, — прошептала она.
— Нет принцесса, — отвечал взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева.
— Вон! — крикнула принцесса вне себя от раздражения, до такой степени хладнокровие и молчаливая почтительность де Гиша взбесили ее.
Де Гиш отступил на несколько шагов, отвесил поклон, выпрямился, белый как полотно, и слегка дрогнувшим голосом произнес:
— Мне не стоило так усердствовать, чтобы подвергнуться совершенно несправедливой немилости.
И он не спеша повернулся спиной. Но не сделал он и пяти шагов, как принцесса бросилась за ним, точно тигрица, схватила его за рукав и воскликнула, привлекая к себе:
— Ваша притворная почтительность страшнее прямого оскорбления. Но оскорбляйте меня, только говорите!
Она вся дрожала от ярости.
— Принцесса, — мягко отвечал граф, обнажая шпагу, — пронзите мое сердце, но не томите!
По устремленному на нее взгляду, полному любви, решимости и даже отчаяния, она поняла, что этот человек, наружно такой спокойный, пронзит себя шпагой, если она прибавит хоть слово.
Она вырвала у него оружие и, сжав ему руку, с исступлением, которое могло сойти за нежность, сказала:
— Граф, пощадите меня! Вы видите, я страдаю, а у вас нет ни капли жалости.
Слезы заглушили ее голос. Увидев принцессу плачущей, де Гиш схватил ее в объятия и отнес на кресло. Она задыхалась.
— Почему, — говорил он, упав на колени, — вы не расскажете мне, что вас печалит? Вы кого-нибудь любите? Скажите мне! Это меня убьет, но раньше я сумею утешить вас, облегчить ваши страдания и оказать вам какую угодно услугу.
— Неужели вы меня так любите?
— Да, я вас люблю, принцесса!
Она протянула ему обе руки.
— Действительно, я люблю, — прошептала она так тихо, что никто, кроме де Гиша, не расслышал бы.
— Короля? — спросил он.
Она слегка кивнула головой, и ее улыбка была похожа на те просветы между тучами, в которых после грозы как бы открывается рай.
— Но в сердце знатной женщины, — прибавила она, — живут и другие страсти. Любовь — поэзия; но настоящей жизнью благородного сердца является гордость. Граф, я рождена на троне, я горда и ревниво отношусь к своему положению. Зачем король приближает к себе недостойных?
— Опять! Вы снова оскорбляете бедную девушку, которая будет женой моего друга.
— Неужели вы так наивны, что верите в это?
— Если бы я не верил, — отвечал де Гиш, сильно побледнев, — Бражелон завтра же узнал бы все; да, узнал бы, если бы у меня были основания предполагать, что бедняжка Лавальер забыла клятвы, данные Раулю. Впрочем, нет, было бы низко выдавать тайну женщины и было бы преступно смутить покой друга.
— Вы думаете, — спросила принцесса, истерически захохотав, — что неведение — счастье?
— Да, думаю, — отвечал он.
— Докажите это, докажите! — приказала она.
— Доказать нетрудно. Принцесса, весь двор говорит, что король любил вас и что вы любили короля.
— Ну! — заторопила она, тяжело дыша.
— Ну, так допустите, что Рауль, мой друг, пришел бы ко мне и сказал: «Да, король любит принцессу; да, король покорил сердце принцессы», — тогда я, быть может, убил бы Рауля!
— Следовало бы, — промолвила принцесса тоном упрямой женщины, которая чувствует себя неприступной, — чтобы господин Бражелон представил вам доказательство своих слов.
— А все-таки, — отвечал со вздохом де Гиш, — пребывая в неведении, я не стал углубляться, и мое неведение спасло мне жизнь.
— Неужели вы до такой степени эгоистичны и холодны, — спросила принцесса, — что позволите этому несчастному молодому человеку по-прежнему любить Лавальер?
— Да, до тех пор, пока мне не будет доказана виновность Лавальер.
— А браслеты?
— Ах, принцесса, ведь вы надеялись, что король поднесет их вам. Что же я мог бы подумать?
Довод был неотразим; принцесса была сокрушена. С этого мгновения она уже не могла оправиться. Но так как душа ее была полна благородства, а ум отличался тонкостью и остротой, то она оценила всю деликатность де Гиша.
Принцесса ясно прочла в его сердце, что он подозревал о любви короля к Лавальер, но не хотел пользоваться этим вульгарным средством, не хотел губить соперника в мнении женщины, убедив ее, что этот соперник ухаживает за другой.
Она догадалась, что де Гиш подозревает Лавальер, но, желая дать ей время одуматься, чтобы не погубить ее навсегда, воздерживается от решительного шага и не собирает более точных сведений. Словом, она угадала в сердце графа столько подлинного величия и столько великодушия, что почувствовала, как ее собственное сердце воспламеняется от соприкосновения с таким чистым пламенем.
Несмотря на боязнь не понравиться, де Гиш остался человеком последовательным и преданным, и это возвышало его до степени героя, а ее низводило до положения мелочной, ревнивой женщины. Она почувствовала к нему такую нежность, что не могла не выразить ее.
— Сколько ненужных слов, — сказала она, беря его за руку. — Подозрение, беспокойство, недоверие, страдание, — кажется, мы произнесли все эти слова.
— Увы, да, принцесса!
— Вычеркните их из вашего сердца, как я выбрасываю их из своего. Пусть Лавальер любит короля или не любит, пусть король любит Лавальер или не любит, мы, граф, давайте разберемся в ролях, которые мы играем. Вы делаете большие глаза? Держу пари, что вы не понимаете меня!
— Вы так своенравны, принцесса, что я постоянно боюсь не угодить вам.
— Посмотрите, как он дрожит, как он испуган! — шутливо сказала принцесса с очаровательной улыбкой. — Да, сударь, мне приходится играть две роли. Я — невестка короля. Должна ли я на этом основании вмешиваться в его дела? Ваше мнение?
— Как можно меньше, принцесса.
— Согласна. Но это вопрос достоинства. Во-вторых, я — жена принца.
Де Гиш вздохнул.
— И это, — нежно добавила она, — должно побуждать вас всегда говорить со мной с величайшим почтением.
— О! — воскликнул де Гиш, падая к ее ногам и целуя их.
— Мне кажется, — прошептала она, — что у меня есть еще одна роль. Я забыла о ней.
— Какая же, какая?
— Я — женщина, — еще тише прошептала она, — и я люблю.
Де Гиш поднялся. Она открыла ему объятия; их губы слились.
За портьерой послышались шаги. Вошла Монтале.
— Что вам угодно, мадемуазель? — спросила принцесса.
— Ищут господина де Гиша, — отвечала Монтале, успевшая заметить замешательство актеров, игравших четыре роли, так как и де Гиш героически сыграл свою.
XVIII. Монтале и Маликорн
Монтале сказала правду. Г-на де Гиша всюду искали, и оставаться у принцессы ему было рискованно. Поэтому принцесса, несмотря на уязвленную гордость, несмотря на скрытый гнев, не могла, по крайней мере в данную минуту, ни в чем упрекнуть Монтале, так дерзко нарушившую уединение влюбленных.
Де Гиш тоже потерял голову, но еще до появления Монтале; поэтому, едва услышав голос фрейлины, граф, не попрощавшись с принцессой, чего требовала простая вежливость даже между людьми равными, поспешно скрылся, совершенно обезумевший, оставив принцессу с поднятой рукой, посылавшей ему привет.
Дело в том, что де Гиш мог сказать, как говорил через сто лет Керубино, что уносит на губах счастье на целую вечность.
Итак, Монтале нашла влюбленных в большом замешательстве; в замешательстве был тот, кто убегал, в замешательстве была и та, что оставалась.
И фрейлина прошептала, вопросительно оглядываясь кругом:
— Кажется, на этот раз я узнаю столько, что самая любопытная женщина позавидовала бы мне.
Принцесса была до такой степени смущена этим пытливым взглядом, точно она расслышала слова фрейлины, и, опустив глаза, отправилась в спальню. Видя это, Монтале насторожилась, и до нее донесся звук щелкнувшего ключа.
Тогда Монтале поняла, что вся ночь в ее распоряжении, и, сделав перед дверью довольно непочтительный жест, как бы говоривший: «Покойной ночи, принцесса», — сбежала вниз разыскивать Маликорна, который внимательно рассматривал запыленного курьера, выходившего из комнат графа де Гиша.
Поняв, что Маликорн занят важным делом, Монтале не беспокоила его и, лишь когда он перестал напрягать зрение и вытягивать шею, хлопнула его по плечу.
— Ну, — спросила Монтале, — что нового?
— Господин де Гиш любит принцессу, — отвечал Маликорн.
— Вот так новость! Я знаю кое-что посвежее.
— Что именно?
— Что принцесса любит господина де Гиша.
— Одно вытекает из другого.
— Не всегда, мой милый.
— Это сказано по моему адресу?
— Присутствующие всегда исключаются.
— Спасибо, — поклонился Маликорн. — А как обстоят дела у короля?
— Король хотел видеть Лавальер сегодня вечером после лотереи.
— И что же, он видел ее?
— Нет.
— Как нет?
— Дверь была заперта.
— Так что?..
— Так что король ушел посрамленный, как простой вор, забывший свои инструменты.
— Хорошо.
— А у вас что нового? — спросила Монтале.
— Господин де Бражелон прислал курьера к господину де Гишу.
— Прекрасно, — улыбнулась Монтале и захлопала в ладоши.
— Почему прекрасно?
— Потому что предстоит развлечение. Если мы теперь начнем скучать, значит, мы сами виноваты.
— Нужно разделить обязанности, — сказал Маликорн, — чтобы не вышло путаницы.
— Ничего не может быть проще, — отвечала Монтале. — Три свеженькие интриги, если они ведутся как следует, дают по крайней мере три записочки в день.
— Что вы, дорогая! — воскликнул Маликорн, пожимая плечами. — Три записки в день! Да это хорошо только для мещанских чувств. Мушкетер на часах и девчонка в монастыре обмениваются ежедневно запиской через щелку в стене. В одной записочке вмещается вся поэзия этих бедных сердец. Но у нас… как вы плохо знаете королевскую нежность, дорогая!
— Кончайте скорее, — нетерпеливо перебила его Монтале. — Сюда могут прийти.
— Кончать? Да я только начал. У меня есть еще три важных пункта.
— Он положительно уморит меня своей фламандской флегматичностью, — вскричала Монтале.
— А вы совсем собьете меня с толку вашей итальянской живостью. Итак, я вам сказал, что наши влюбленные будут посылать друг другу целые тома. Но что же из этого?
— А то, что ни одна из наших дам не может хранить получаемых писем.
— Без сомнения.
— И то, что господин де Гиш тоже не решится хранить полученные им письма.
— Вероятно.
— Значит, я буду хранить всю эту переписку у себя.
— Это совершенно невозможно, — сказал Маликорн.
— Почему же?
— Потому, что вы не дома; потому, что у вас общая комната с Лавальер; потому, что комнату фрейлин частенько осматривают и обыскивают; потому, что королева ревнива, как испанка, и королева-мать ревнива, как две испанки, и, наконец, принцесса ревнива, как десять испанок…
— Вы кое-кого забываете.
— Кого?
— Принца.
— Я говорил только о женщинах. Итак, перенумеруем. Номер первый — принц.
— Номер второй — де Гиш.
— Номер третий — виконт де Бражелон.
— Номер четвертый — король.
— Король?
— Конечно, король; он не только самый ревнивый, но и самый могущественный из всех.
— О дорогая!
— Дальше!
— В какое же осиное гнездо вы попали!
— А вы хотите идти за мной?
— Конечно, хочу. Однако…
— Однако…
— Однако, пока есть еще время, я думаю, было бы благоразумнее вернуться.
— А я, напротив, думаю, что было бы благоразумнее сразу же овладеть всеми этими интригами.
— Вы не справитесь.
— С вашей помощью я справлюсь и с десятью. Это моя стихия, дорогой мой. Я создана для придворной жизни, как саламандра создана, чтобы жить в огне.
— Ваше сравнение нисколько не успокаивает меня, дорогая. Я слышал от очень ученых людей, что, во-первых, саламандр не существует, а во-вторых, если бы они и существовали, то выходили бы из огня совершенно изжаренными.
— Ваши ученые, может быть, отлично знают все, что касается саламандр, но они не скажут вам того, что я сейчас скажу, а именно: Оре де Монтале меньше чем через месяц суждено стать первым дипломатом при французском дворе!
— Пожалуй, но при условии, что я буду вторым.
— Идет; союз наступательный и оборонительный, разумеется.
— Только остерегайтесь писем.
— Я буду отдавать их вам, по мере того как они будут поступать ко мне.
— Что скажем мы королю о принцессе?
— Что принцесса все еще любит короля.
— Что скажем мы принцессе о короле?
— Что она поступит весьма опрометчиво, если не будет щадить его.
— Что скажем мы Лавальер о принцессе?
— Что вздумается. Лавальер наша.
— Наша?
— Вдвойне.
— Как так?
— Во-первых, благодаря виконту де Бражелону.
— Объяснитесь.
— Надеюсь, вы не забыли, что господин де Бражелон писал много писем мадемуазель де Лавальер.
— Я ничего не забываю.
— Эти письма получала я, и я их прятала.
— Значит, они у вас?
— У меня.
— Где же — здесь?
— О нет, они в Блуа, в знакомой вам комнатке.
— Милая комнатка, комнатка, наполненная любовью, преддверие дворца, в котором я когда-нибудь поселю вас! Но простите, вы говорите, что все эти письма в той комнатке?
— Да.
— А вы не прятали их в шкатулку?
— Конечно, в ту самую шкатулку, куда я прятала письма, полученные от вас, и мои собственные письма, когда дела или развлечения мешали вам приходить на свидание.
— Отлично! — воскликнул Маликорн.
— Почему вы так довольны?
— Потому, что мне не придется ездить за письмами в Блуа. Они у меня здесь.
— Вы привезли шкатулку?
— Она была мне дорога, потому что она ваша.
— Так храните ее хорошенько. В шкатулке есть документы, которые впоследствии будут стоить очень дорого.
— Я это знаю. Именно поэтому я смеюсь, и смеюсь от всего сердца!
— Теперь последнее слово.
— Почему же последнее?
— Нам нужны будут помощники?
— Никаких.
— Лакеи, горничные?
— Нет, никого. Это не годится. Вы сами будете отдавать письма и сами получать их. Никаких обид! Если господин Маликорн и мадемуазель Ора не будут устраивать свои дела сами, то дела эти попадут в чужие руки.
— Вы правы. Но что такое происходит у господина де Гиша?
— Ничего; он открывает окно.
— Бежим скорее!
И оба исчезли; заговор был составлен.
Действительно, в комнате графа де Гиша открылось окно. Но это он сделал не только для того, чтобы, как предположили бы несведущие, постараться увидеть тень принцессы через занавески; графа волновали не одни только любовные чувства.
Как мы уже сказали, к нему только что приехал курьер, посланный Бражелоном. Бражелон писал де Гишу. Граф дважды перечитал письмо Рауля, которое произвело на него глубокое впечатление.
— Странно! Странно! — шептал он. — Какими могучими средствами судьба влечет людей к цели!
И, отойдя от окна, поближе к свету, он в третий раз перечитал это письмо, строки которого жгли его мозг и глаза.
« Кале.
Дорогой граф!
Я встретил в Кале г-на де Варда, который был тяжело ранен на дуэли с герцогом Бекингэмом.
Де Вард, как вы знаете, человек храбрый, но мстительный и злобный.
Он говорил мне о вас, уверяя, что очень к вам расположен; говорил также о принцессе, которую он находит красивой и любезной. Он догадался о вашей любви к известной вам особе.
Он говорил также о той, кого я люблю, и выразил мне большое сочувствие, сопровождая его такими темными намеками, что я сперва испугался, но потом приписал их его привычке держаться таинственно.
Дело вот в чем.
Он получил из Фонтенбло известия. Вы понимаете, их мог сообщить ему только г-н де Лоррен.
Говорят, так сообщается ему в этих известиях, что в сердце короля произошла перемена. Вы знаете, кого это касается. Кроме того, сообщается в этих же известиях, говорят об одной фрейлине, которая дает повод к злословию.
Эти неопределенные фразы отняли у меня сон. Я пожалел, что мой характер, прямой и слабый, несмотря на известную долю упрямства, помешал мне ответить на эти утверждения.
Так как г-н де Вард уезжал в Париж, то я не стал его задерживать объяснениями. Сознаюсь откровенно, мне казалось неделикатным подвергать допросу человека, раны которого едва зарубцевались.
Короче говоря, он уехал — уехал, по его словам, для того, чтобы посмотреть на любопытное зрелище, которое, наверное, в самом скором времени будет представлять двор. Прощаясь, он поздравил меня и выразил соболезнование. Я не понял ни того, ни другого. Я был сбит с толку своими мыслями и недоверием к этому человеку, недоверием, которого, как вам хорошо известно, я никогда не мог преодолеть.
Но едва он уехал, мой ум прояснился. Невозможно предположить, чтобы человек с таким характером, как де Вард, не подлил некоторой дозы яду в свои разговоры со мной. Поэтому в таинственных словах г-на де Варда, наверное, вовсе нет таинственного смысла, который я мог бы приложить к себе или к известной вам особе.
Принужденный, по приказанию короля, немедленно ехать в Англию, я не имею никакого намерения бежать за г-ном де Вардом, чтобы получить объяснение его недомолвок; но я посылаю вам курьера и пишу письмо, из которого вы узнаете обо всех моих сомнениях. Выступайте от моего имени; я размышлял, вы действуйте.
Господин де Вард скоро приедет в Фонтенбло; узнайте же, что означают его намеки, если только вам это неизвестно. Г-н де Вард уверял также, будто герцог Бекингэм уехал из Парижа, осчастливленный принцессой. В ответ на эти слова я немедленно обнажил бы шпагу, если бы не находил, что служба королю обязывает пренебрегать личными счетами.
Сожгите это письмо, которое вам доставит Оливен.
Оливен воплощение верности.
Очень прошу вас, дорогой граф, напомнить обо мне мадемуазель де Лавальер, ручки которой я почтительно целую.
Обнимаю вас.
«P.S. Если случится что-нибудь серьезное — все следует предвидеть, дорогой друг, — пошлите в Лондон курьера с одним только словом: „Приезжайте“, — и я буду в Париже через тридцать шесть часов после получения вашего письма».
Де Гиш вздохнул, сложил письмо в третий раз и, вместо того чтобы сжечь его, как приказал Рауль, спрятал его в карман.
Ему хотелось еще несколько раз перечитать эти строки.
— Сколько тревоги и вместе с тем какое доверие! — прошептал граф. — В этом письме вся душа Рауля; он забывает в нем о графе де Ла Фер и говорит о своем уважении к Луизе. Ах, — продолжал де Гиш с угрозой, — вы вмешиваетесь в мои дела, г-н де Вард? Хорошо же, я займусь вашими! Бедный Рауль, твое сердце поручает мне сокровище; я буду охранять его, не бойся!
Дав такое обещание, де Гиш послал за Маликорном с просьбой явиться к нему как можно скорее.
Маликорн тотчас же явился, его поспешность была первым следствием беседы с Монтале.
Чем больше расспрашивал де Гиш, тем больше разгадывал Маликорн его намерения. В результате, после двадцатиминутного разговора, в течение которого де Гиш рассчитывал узнать всю правду о Лавальер и о короле, он узнал только то, что видел собственными глазами. Между тем Маликорн узнал или угадал, как вам будет угодно, что у Рауля рождаются подозрения и что де Гиш собирается стеречь сокровища Гесперид.
Маликорн согласился принять на себя роль дракона.
Де Гиш вообразил, будто он сделал все для своего друга, и теперь занялся собой.
На другой день вечером стало известно о возвращении де Варда и о посещении им короля. После этого визита выздоравливающий должен был посетить принца. Де Гиш поспешил к принцу.
XIX. Как де Вард был принят при дворе
Принц принял де Варда с такой отменной благосклонностью, которую внушает человеку легкомысленному надежда на получение интересных новостей.
Де Варда никто не видел целый месяц, так что он был лакомым блюдом. Обласкать его означало прежде всего проявить неверность по отношению к старым друзьям, а в неверности всегда заключена какая-то прелесть; кроме того, такой лаской можно было загладить былые недоразумения. Итак, принц принял де Варда весьма милостиво.
Шевалье де Лоррен, очень боявшийся соперника, но уважавший в нем характер, во всем схожий с его собственным, но более отважный, — шевалье де Лоррен встретил де Варда еще ласковее, чем принц.
Как мы уже сказали, любимцем принца был также де Гиш, но он держался немного в стороне, терпеливо ожидая, когда кончатся все эти нежности.
Разговаривая с гостями принца и даже с самим принцем, де Вард не терял из виду де Гиша; инстинкт подсказывал ему, что де Гиш пришел ради него. Поэтому, поздоровавшись со всеми, де Вард тотчас же направился к де Гишу. Они обменялись друг с другом самыми изысканными приветствиями. После этого де Вард вернулся к принцу и его свите.
Среди всеобщих поздравлений с счастливым возвращением было доложено о приходе принцессы.
Принцесса уже знала о приезде де Варда. Ей были известны все подробности его путешествия и дуэли с Бекингэмом. Она не без удовольствия собиралась присутствовать при сообщении, которое должен был сделать ее враг. Принцесса пришла в сопровождении нескольких фрейлин.
Де Вард самым любезным образом приветствовал принцессу и, как бы открывая враждебные действия, объявил о своей готовности рассказать о герцоге Бекингэме.
Это был ответ на холодный прием принцессы. Нападение было энергичное; принцесса почувствовала удар, но сделала вид, что он не попал в цель. Она мельком взглянула на принца и на де Гиша. Принц покраснел, де Гиш побледнел. Принцесса сохранила бесстрастный вид, однако, сознавая, сколько неприятностей может причинить ей этот враг, она с улыбкой наклонилась в сторону путешественника, который заговорил о чем-то другом.
Принцесса была смела, даже неосторожна; при всяком отступлении неприятеля она устремлялась вперед. После минутного замешательства она бесстрашно бросилась в огонь.
— Вы очень страдали от ран, господин де Вард? — спросила она. — Мы здесь узнали, что вам не посчастливилось и вы были ранены.
Теперь де Варду пришла очередь вздрогнуть; он поджал губы.
— Нет, принцесса, я почти не чувствовал боли.
— Однако в такую страшную жару…
— Морской воздух освежает, принцесса; кроме того, у меня было одно утешение.
— Вот как! Тем лучше!.. Какое же?
— Знать, что мой противник страдает больше меня.
— О! Он был ранен серьезнее вас? Я этого не знала, — заметила принцесса с полнейшим бесстрастием.
— Вы ошибаетесь, принцесса, или, вернее, делаете вид, что ошибаетесь. Его тело не испытывало такой боли, как мое, зато было задето его сердце.
Де Гиш понял, к чему клонилась борьба: он сделал принцессе знак, умоляя ее прекратить состязание. Но принцесса, не отвечая графу и делая вид, что не замечает его, спросила, продолжая улыбаться;
— Как, разве герцог Бекингэм был ранен в сердце? До сих пор я думала, что раны в сердце неизлечимы.
— Увы, принцесса, — с изысканной любезностью отвечал де Вард, — все женщины убеждены в этом, и потому они так самонадеянны.
— Вы неправильно поняли его, моя милая, — нетерпеливо заметил принц. — Господин де Вард хочет сказать, что герцог Бекингэм был ранен в сердце не шпагой, а другим оружием.
— Ах, вот оно что! — воскликнула принцесса. — Господин де Вард пошутил; отлично. Но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу? Право, очень жаль, что его нет здесь, господин де Вард.
Глаза молодого человека блеснули.
— Мне тоже очень жаль, — произнес он, стиснув зубы.
Де Гиш не пошевелился. Принцесса как будто ждала, что он придет ей на помощь.
Принц колебался.
Тогда выступил шевалье де Лоррен:
— Принцесса, де Вард отлично знает, что для такого человека, как Бекингэм, получать сердечные раны не новость.
— Вместо того чтобы приобрести одного союзника, мне приходится иметь дело с двумя врагами, — прошептала принцесса, — врагами сговорившимися, ожесточенными.
И она переменила тему разговора. Принцы, как известно, имеют право менять темы разговора, и этикет требует уважать это право. Оживление пропало; главные актеры сыграли свои роли.
Принцесса ушла рано, и принц, желавший расспросить ее, предложил ей руку.
Шевалье де Лоррен слишком боялся восстановления добрых отношений между супругами, для того чтобы оставить их в покое. Поэтому он направился к апартаментам принца с целью встретить его на обратном пути и уничтожить двумя-тремя словами все благоприятные впечатления, которые принцесса могла оставить в его сердце. Де Гиш сделал шаг по направлению к де Варду, которого тесно обступила кучка придворных. Он выразил таким образом желание поговорить с ним. Де Вард сделал ему глазами и головой знак, что он понял.
Посторонним это движение показалось дружелюбным.
Де Гишу недолго пришлось ждать. Освободившись от своих собеседников, де Вард подошел к де Гишу, и, снова обменявшись поклонами, они стали разгуливать по комнате.
— Благополучно возвратились, дорогой де Вард? — начал граф.
— Как видите, совершенно благополучно.
— И веселы по-прежнему?
— Больше, чем когда-либо.
— Как я рад!
— Что поделаешь! В этом мире столько шутовства, столько смешных причуд.
— Вы правы.
— Значит, вы согласны со мной?
— Еще бы! Вы привезли нам новости?
— Ей-богу, нет; я сам приехал сюда за новостями.
— Рассказывайте! Вы ведь встречались в Булони с разными людьми и недавно видели одного из моих друзей.
— Встречался с людьми?.. Видел одного из ваших друзей?..
— Короткая же у вас память.
— Ах да: Бражелона!
— Именно.
— Который едет с поручением к королю Карлу?
— Совершенно верно. Разве он ничего не рассказал вам и вы ему ничего не рассказали?..
— Право, не помню, что я ему говорил, но отлично помню, чего я ему не сказал.
Де Вард обладал удивительно тонким чутьем. По холодному, исполненному достоинства обращению де Гиша он ясно почувствовал, что разговор принимает дурной оборот. Он решил держаться непринужденно и настороже.
— Скажите же, пожалуйста, что вы от него утаили? — поинтересовался де Гиш.
— Все, что касается Лавальер.
— Лавальер?.. Ничего не понимаю! Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, между тем как Бражелону, находившемуся здесь, ничего не было известно?
— Вы серьезно задаете мне этот вопрос?
— Как нельзя более серьезно.
— Как! Вы, придворный, завсегдатай во дворце, друг принца, фаворит прекрасной принцессы?
Де Гиш вспыхнул от гнева.
— О какой принцессе говорите вы? — спросил он.
— Я знаю только одну, дорогой мой. Я говорю о супруге принца. Разве при дворе есть еще какая-нибудь принцесса? Скажите.
Де Гиш еле сдерживался; ссора была неминуема. Но де Вард хотел, чтобы поводом для нее была принцесса, а де Гиш затевал ее только ради Лавальер. С этого момента началась полная притворства игра, которая могла длиться до тех пор, пока один из противников не оказался бы серьезно задетым.
Итак, де Гиш овладел собой.
— Мне нет никакого дела до принцессы, дорогой де Вард, — заявил де Гиш. — Меня интересует лишь то, что вы сию минуту сказали.
— Что же я сказал?
— Что вы кое-что утаили от Бражелона.
— Иначе говоря — то, что вы знаете так же хорошо, как и я, — отпарировал де Вард.
— Даю вам слово, что нет!
— Полно!
— Если вы мне скажете, я буду знать, — не иначе, клянусь вам!
— Как! Я приезжаю сюда из Булони, а вы находились здесь и видели собственными глазами то, что молва успела занести в Булонь, — и вы серьезно уверяете меня, что ничего не знаете? Помилосердствуйте, граф!
— Как вам угодно, де Вард, но повторяю, что я ничего не знаю.
— Вы скрытничаете; это очень предусмотрительно.
— Значит, вы и мне не скажете больше, чем Бражелону?
— Вы притворяетесь глухим; я убежден, что и принцесса не могла бы лучше владеть собой, чем вы.
«Ах ты, дважды лицемер, — подумал де Гиш, — ты опять возвращаешься к принцессе».
— Ну, раз нам трудно сговориться относительно Лавальер и Бражелона, — продолжал де Вард, — поговорим о ваших личных делах.
— Никаких личных дел у меня нет, — возразил де Гиш. — Надеюсь, вы ничего не сказали обо мне Бражелону, чего не могли бы повторить сейчас?
— Нет. Но поймите, де Гиш, что насколько я не осведомлен относительно одних вещей, настолько мне все отлично известно о других. Например, если бы речь зашла о парижских связях герцога Бекингэма, то я мог бы порассказать вам много очень занимательного, так как был его спутником. Не хотите ли послушать?
Де Гиш вытер вспотевший лоб.
— Нет, — отвечал он, — тысячу раз нет! Я нисколько не любопытен и не желаю знать того, что меня не касается. Герцог Бекингэм просто мой знакомый, тогда как Рауль — близкий друг. Поэтому мне совершенно безразлично, что случилось с герцогом, и я очень интересуюсь всем, что касается Рауля.
— Всем, что произошло с ним в Париже?
— И в Париже и в Булони. Вы понимаете, я нахожусь здесь; если что-нибудь случится, я дам отпор. Между тем Рауль уехал, и один только я могу выступить на его защиту. Итак, дела Рауля мне важнее моих собственных.
— Но Рауль вернется.
— Да, когда исполнит поручение. А до тех пор, вы понимаете, я не могу быть равнодушным к неблагоприятным слухам о нем.
— Тем более что он проведет в Лондоне немало времени, — с усмешкой заметил де Вард.
— Вы думаете? — удивился де Гиш.
— Еще бы! Неужели вы предполагаете, что его послали в Лондон только с тем, чтобы он съездил туда и вернулся? Ну нет, его послали в Лондон, чтобы он там остался.
— О граф! — сказал де Гиш, энергично сжимая руку де Варда. — Это очень неприятное для Бражелона предположение, и оно вполне оправдывает то, что он писал мне из Булони.
Де Вард снова стал хладнокровен; насмешливость слишком увлекла его, и он неосторожно дал своему противнику перевес над собой.
— Скажите, о чем же он писал вам? — спросил он.
— Что вы вероломно оклеветали Лавальер и, по-видимому, смеялись над его доверием к этой девушке.
— Все это правда, — согласился де Вард, — я ожидал услышать от виконта де Бражелона то, что обыкновенно один мужчина говорит другому, когда тот делает оскорбительные намеки. Так, например, если бы я искал с вами ссоры, то сказал бы, что принцесса, отличив своим вниманием герцога Бекингэма, потом отослала его от себя ради вас.
— О, это нисколько бы не оскорбило меня, дорогой де Вард. — Де Гиш принужденно улыбался, несмотря на то, что огонь струился по его жилам. — Такая милость слаще меда.
— Согласен, но если бы я непременно хотел вызвать вас на ссору, я бы постарался уличить вас во лжи; я рассказал бы вам об одной роще, где вы встретились с этой знаменитой принцессой, о коленопреклонениях, о целованиях ручек, и тогда вы, человек скрытный, живой и обидчивый…
— Клянусь вам, — перебил его де Гиш с судорожной улыбкой на губах, — клянусь, это не задело бы меня, и я не стал бы опровергать вас. Что делать, милейший граф, я так создан; ко всему, что касается меня, я отношусь с ледяным равнодушием. Иное дело, когда речь идет об отсутствующем, который, уезжая, просил защищать его честь. Все, что касается этого друга, волнует меня чрезвычайно.
— Я вас понимаю, господин де Гиш; но что вы там ни говорите, нас не могут особенно интересовать сейчас ни Бражелон, ни эта незначительная девушка по имени Лавальер.
В этот момент через салон проходили несколько придворных, которые слышали только что произнесенные слова и должны были услышать также и дальнейшее.
Де Вард заметил это и умышленно громко продолжал:
— О, если бы Лавальер была такой же кокеткой, как принцесса, уловки которой — я согласен, вполне невинные — побудили ее сначала отослать герцога Бекингэма в Англию, а затем изгнать вас. Ведь вы попались в ее сети, не правда ли, сударь?
Придворные подошли ближе; то были де Сент-Эньян и Маникан.
— Что делать, дорогой! — засмеялся де Гиш. — Ведь всем известно, что я — фат. Я принял шутку всерьез и подвергся изгнанию; но я увидел свою ошибку, победил тщеславие, склонился перед кем следовало и получил позволение вернуться, принеся повинную и дав себе слово избавиться от своих заблуждений. Вы видите, что я сейчас совершенно бодр и насмехаюсь над тем, что разбивало мне сердце четыре дня тому назад. Но Рауль любим; он не смеется над слухами, которые могут разрушить его счастье; слухами, которые вы передали ему, между тем как, граф, вы знали не хуже меня, не хуже вот этих господ, не хуже всех, что эти слухи — гнусная клевета!
— Клевета! — воскликнул де Вард, взбешенный тем, что благодаря хладнокровию де Гиша попался в ловушку.
— Ну да, клевета. Вот вам письмо, в котором Рауль сообщает мне, что вы дурно отзывались о мадемуазель де Лавальер, и спрашивает меня, что из сказанного вами об этой девушке правда. Не угодно ли вам, чтобы я пригласил в качестве судей вот этих господ, господин де Вард?
И совершенно хладнокровно де Гиш прочитал вслух строки письма, которые касались Лавальер.
— Теперь, — заявил де Гиш, — для меня совершенно ясно, что вы хотели потревожить покой Бражелона и что ваши слова были продиктованы злобой.
Де Вард огляделся кругом, чтобы увидеть, не найдет ли он в ком-нибудь поддержки. Но, приняв во внимание, что де Вард прямо или косвенно оскорбил Лавальер, которая являлась в настоящее время героиней дня, придворные отрицательно покачали головой, и де Вард ни в ком не встретил сочувствия.
— Господа, — сказал де Гиш, инстинктивно угадывая воодушевлявшее всех чувство, — наш спор с господином де Вардом касается таких щекотливых вопросов, что никому не следует слышать больше того, чем вы слышали. Поэтому я прошу вас позволить нам окончить этот разговор наедине, как подобает дворянам, когда один из них уличил другого во лжи.
— Господа, господа! — раздались возгласы.
— Разве вы находите, что я был не прав, защищая мадемуазель де Лавальер? — спросил де Гиш. — В таком случае я признаю свою ошибку и беру обратно все обидные слова, которые я мог сказать господину де Варду.
— Что вы! — отозвался де Сент-Эньян. — Мадемуазель де Лавальер — ангел!
— Воплощенная добродетель и целомудрие! — поддержал его Маникан.
— Вот видите, господин де Вард, — поклонился де Гиш, — не я один беру под свою защиту бедную девушку. Господа, вторично обращаюсь к вам с просьбой оставить нас наедине. Вы видите, что оба мы совершенно спокойны.
Придворные охотно разошлись. Молодые люди остались одни.
— Недурно разыграно, — сказал де Вард графу.
— Не правда ли? — спросил тот.
— Что делать, в провинции я покрылся ржавчиной, тогда как вы, граф, научились здесь как нельзя лучше владеть собой и привели меня в смущение; в женском обществе всегда приобретаешь что-нибудь. Примите же мои поздравления.
— Принимаю.
— И разрешите мне передать поздравления также принцессе.
— Теперь, дорогой мой де Вард, можете хоть кричать об этом.
— Не раздражайте меня!
— О, я вас не боюсь! Все знают, что вы злой человек. Если вы заговорите о принцессе, вас сочтут трусом, и принц сегодня же вечером прикажет повесить вас на своем окне. Говорите же, дорогой де Вард, говорите сколько угодно!
— Я побежден.
— Но еще не в такой степени, как вы заслуживаете.
— Я вижу, что вы с радостью положили бы меня на обе лопатки.
— И даже больше!
— Только вы выбрали неудачный момент, дорогой граф; после недавно сыгранной мной партии партия с вами мне не по силам. Я потерял слишком много крови в Булони; при малейшем усилии мои раны раскроются, и, право, ваша победа будет стоить вам очень дешево.
— Это правда, — согласился де Гиш, — хотя, появившись в нашем обществе, вы сделали вид, что совсем здоровы и что руки ваши действуют превосходно.
— Руки действуют, это верно; но ноги очень ослабели, и, кроме того, после этой проклятой дуэли я ни разу не брался за шпагу, вы же, бьюсь об заклад, фехтовали каждый день, чтобы игра не оказалась опасной для вас.
— Даю вам слово, сударь, — отвечал де Гиш, — что уже шесть месяцев, как я не упражнялся.
— Нет, граф, по зрелом размышлении я не стану драться, по крайней мере с вами. Подожду Бражелона, который, по вашему мнению, сердит на меня.
— Нет, вам не дождаться Бражелона! — вскричал де Гиш, выйдя из себя. — Ведь вы сами сказали, что Бражелон может задержаться в Лондоне, а тем временем ваш злобный ум успеет сделать свое дело.
— Однако у меня будет извинение. Берегитесь!
— Даю вам неделю на окончательное выздоровление.
— Это уже лучше. Через неделю посмотрим.
— Да, да, понимаю: в течение недели можно ускользнуть от врага. Нет, не согласен, не даю вам ни одного дня…
— Вы с ума сошли, сударь, — вскричал де Вард, попятившись.
— А вы бесчестны, если отказываетесь драться.
— Ну?
— Я доложу королю, что, оскорбив Лавальер, вы отказываетесь драться.
— О, да вы воплощенное коварство, господин честный человек!
— Опаснее всего коварство того, кто всегда ведет себя лояльно.
— В таком случае возвратите мне былую силу моих ног или велите сделать себе сильное кровопускание, чтобы уравнять наши шансы.
— Нет, я придумал нечто лучшее.
— Что именно?
— Мы будем драться верхом, на пистолетах. Каждому будет предоставлено право сделать три выстрела. Вы превосходно стреляете. Я знаю, что вы попадали в птицу, пустив лошадь галопом. Не отрицайте, я это видел!
— Думаю, что вы правы, — сказал де Вард, — в таком случае возможно, что я вас убью.
— Право, вы окажете мне услугу.
— Постараюсь.
— Значит, решено?
— Руку!
— Вот она… Но с одним условием.
— С каким?
— Дайте мне слово, что королю об этом не будет ничего известно.
— Клянусь вам.
— Иду за лошадью.
— Я тоже.
— Куда мы поедем?
— На поляну. Я знаю удобное место.
— Поедем вместе.
— Почему же нет?
И, направляясь к конюшне, враги прошли мимо слабо освещенных окон принцессы. За кружевными занавесками виднелась тень.
— Вот женщина, — улыбнулся де Вард, — которая даже не подозревает, что из-за нее мы идем на смерть.
XX. Поединок
Выбрав лошадей, де Вард и де Гиш собственноручно оседлали их.
У де Варда не было пистолетов, зато у де Гиша нашлось две пары. Он сходил за ними, зарядил и предоставил выбор де Варду. Де Вард выбрал те пистолеты, из которых он уже стрелял двадцать раз, те самые, из которых на глазах де Гиша он убивал на лету ласточек.
— Не удивляйтесь, — сказал он, — что я принимаю все предосторожности. Вы знаете свое оружие. Следовательно, я только уравниваю шансы.
— Совершенно напрасное замечание, — отвечал де Гиш, — никто не оспаривает вашего права.
— Теперь, — продолжал де Вард, — я попрошу вас помочь мне сесть на лошадь, потому что мне еще трудновато делать такие движения.
— В таком случае нам нужно драться стоя.
— Нет, сидя в седле, я чувствую себя прекрасно.
— Отлично, не будем больше говорить об этом.
И де Гиш помог де Варду сесть на лошадь.
— Однако, — заметил де Вард, — мы настолько увлеклись желанием уничтожить друг друга, что совершенно упустили из виду одно обстоятельство.
— Какое?
— Темноту; нам придется убивать друг друга наобум.
— Пустяки; все равно одни и те же последствия…
— Следует принять во внимание еще одно: честные люди никогда не сражаются без секундантов.
— О, — воскликнул де Гиш, — ведь мы будем действовать по всем правилам!
— Да, но я не хочу дать повод для разговоров, что вы убили меня из-за угла, точно так же как, если я убью вас, я не хочу, чтобы меня обвинили в преступлении.
— Разве такие обвинения появлялись в связи с вашей дуэлью с герцогом Бекингэмом? — спросил де Гиш. — Между тем она происходила на тех же условиях, что и наш предстоящий поединок.
— Но ведь тогда было светло; мы стояли в воде почти по пояс; кроме того, на берегу собралось немало зрителей.
Де Гиш несколько мгновений размышлял. Но в его голове окончательно утвердилась мысль, что де Вард хочет привлечь свидетелей с целью возобновить разговор о принцессе и придать дуэли новый оборот. Поэтому он ничего не ответил, и когда де Вард в последний раз вопросительно посмотрел на него, он знаком дал ему понять, что предпочитает держаться принятых условий.
Итак, двое противников пустились в путь, выехав из замка через те самые ворота, возле которых мы недавно видели Монтале и Маликорна.
Словно для того, чтобы побороть зной, на темном небе собрались облака, и ночь медленно гнала их с востока на запад. Этот тяжелый свод, без просветов и без вспышек молнии, давил на землю и начинал медленно разрушаться от порывов ветра, как огромное полотно.
Падали крупные теплые капли дождя и сбивали пыль в шарики. В то же время жаждущие влаги цветы, кустарники и деревья в предчувствии грозы распространяли крепкий аромат, навевавший сладкие воспоминания, мысли о юности, о вечной жизни, о счастье и любви.
— Как хорошо пахнет земля, — проговорил де Вард, — она кокетничает с нами, стараясь привлечь к себе.
— Кстати, — сказал де Гиш, — мне пришло в голову несколько мыслей, которыми я хочу поделиться с вами.
— По поводу чего?
— По поводу нашего поединка.
— Действительно, мне кажется, что нам пора заняться им.
— Это будет обыкновенная дуэль, согласно установленным правилам?
— Скажите ваши усдовия.
— Мы выберем удобную полянку, сойдем с лошадей, привяжем их к чему придется и встретимся без оружия. Потом каждый из нас отойдет на полтораста шагов и снова двинется навстречу другому.
— Хорошо! Именно таким образом я убил в Сен-Дени бедного Фоливана три недели тому назад.
— Извините, вы забываете одну подробность.
— Какую?
— Во время дуэли с Фоливаном вы шли друг на друга со шпагами в зубах и пистолетами в руках.
— Это верно.
— На этот раз, напротив, мы, по вашему желанию, снова сядем на коней и сшибемся; кто захочет, тот и будет стрелять первым.
— Это самое лучшее, конечно. Но так как уже темно, то нужно ожидать больше промахов, чем днем.
— Может быть. Каждый имеет право выстрелить три раза; для первых двух выстрелов пистолеты заряжены, для третьего — придется снова зарядить.
— Отлично! Где же произойдет наша дуэль?
— Вам хочется драться в каком-нибудь определенном месте?
— Нет.
— Вы видите впереди рощицу?
— Рошен? Отлично.
— Вам она известна?
— Превосходно.
— Значит, вы знаете, что посредине нее есть лужайка?
— Да.
— Поедем туда.
— Хорошо!
— Она похожа на огороженную площадку со всевозможными дорожками, тропинками, рвами, аллеями; словом, мы будем чувствовать себя там превосходно.
— Я согласен. Мы, кажется, приехали?
— Да. Посмотрите, как чудесно! Звездный свет, как говорит Корнель, сконцентрирован на этом месте; естественной границей служат деревья, окружающие площадку, точно стеной.
— Хорошо! Действуйте, как вы сказали.
— В таком случае точнее определим условия.
— Вот мои условия; если у вас есть какие-нибудь возражения, скажите.
— Слушаю.
— Если будет убита лошадь, всадник может сражаться пешим.
— Не возражаю, потому что у нас нет запасных лошадей.
— Но другой дуэлянт не обязан сходить с лошади.
— Другой дуэлянт волен действовать как ему угодно.
— Сойдясь, противники могут не разъезжаться и, следовательно, стрелять друг в друга в упор.
— Принято.
— Три заряда, не больше, не правда ли?
— Думаю, что этого довольно. Вот порох и пули для ваших пистолетов; отмерьте три заряда, возьмите три пули; я сделаю то же самое, потом мы рассыплем остаток пороха и выкинем пули.
— И поклянемся крестом, — прибавил де Вард, — что у нас нет больше ни пороху, ни пуль?
— Клянусь, — согласился де Гиш, подняв руку к небу.
Де Вард последовал его примеру.
— А теперь, милый граф, — сказал он, — позвольте мне заявить, что вам не удалось одурачить меня. Вы любовник или скоро будете любовником принцессы. Я отгадал вашу тайну, и вы боитесь, что я ее разглашу. Вы желаете убить меня, чтобы обеспечить мое молчание, — это так понятно, и на вашем месте я поступил бы точно так же.
Де Гиш опустил голову.
— Однако стоило ли, — торжествующим тоном продолжал де Вард, — навязывать мне еще эту неприятность с Бражелоном? Берегитесь, мой друг, загнанный в тупик дикий кабан приходит в бешенство; преследуемая лисица делается свирепой, как ягуар. Следовательно, доведенный вами до крайности, я буду отчаянно защищаться.
— Это ваше право.
— Да, но берегитесь, я наделаю вам много неприятностей. Например, вы догадываетесь, не правда ли, что я не был глуп и не запер мою тайну, вернее, вашу тайну, в своем сердце на замок? Один из моих друзей, человек очень умный, вы его знаете, посвящен в мою тайну; таким образом, поймите хорошенько: если вы меня убьете, моя смерть не принесет вам особенно большой пользы, между тем как, напротив, если я вас убью, гм!.. Все возможно, вы понимаете?
Де Гиш вздрогнул.
— Если я вас убью, — продолжал де Вард, — то два врага принцессы приложат все усилия, чтобы ее погубить.
— О сударь, — вскричал взбешенный де Гиш, — не рассчитывайте на мою смерть! Одного из этих врагов я надеюсь убить сейчас, а другого при первом же удобном случае.
Де Вард отвечал таким сатанинским хохотом, что человек суеверный испугался бы. Но де Гиш не был впечатлителен.
— Мне кажется, — сказал он, — мы обо всем договорились, господин де Вард. Итак, выезжайте на место сражения, если не хотите, чтобы выехал я.
— Нет, зачем же, — отвечал де Вард. — Я восхищен тем, что могу избавить вас от труда.
И, пустив лошадь галопом, он пересек всю лужайку и остановился как раз напротив того места, которое занял де Гиш.
Де Гиш не двигался. На расстоянии ста шагов противники, скрытые густой тенью вязов и каштанов, были совершенно не видны друг другу.
В течение минуты царила полная тишина. Потом каждый услышал двойное щелканье пистолетных курков. Де Гиш, следуя обычной тактике, пустил лошадь в галоп в уверенности, что плавное качание и быстрота движения защитят его. Он направился по прямой линии к тому месту, где, по его мнению, должен был находиться де Вард. На половине пути он рассчитывал встретиться с противником, но ошибся. Тогда он стал продолжать путь, предполагая, что де Вард ожидает его, не трогаясь с места.
Но, проехав две трети поляны, он вдруг увидел, что площадка осветилась, и в то же мгновение пуля со свистом сбила перо, украшавшее его шляпу. Почти тотчас же за первым выстрелом, озарившим поляну, грянул второй выстрел, и вторая пуля угодила в голову лошади де Гиша, немного ниже уха.
Животное упало.
Эти два выстрела были неожиданностью для де Гиша, ибо они раздались со стороны, противоположной той, где он рассчитывал встретить де Варда; но так как он отличался большим самообладанием, то рассчитал свое падение, — впрочем, не вполне правильно, и его нога оказалась под лошадью.
Когда лошадь начала биться в агонии, де Гишу удалось высвободить ногу.
Почувствовав, что животное слабеет, он сунул пистолеты в кобуры, из боязни, чтобы они не выстрелили от падения и он не остался бы безоружным. Поднявшись, он снова вынул пистолеты и направился к тому месту, где при вспышке выстрелов увидел де Варда. Де Гиш сразу же разгадал маневр противника, в сущности, чрезвычайно простой.
Вместо того чтобы двигаться навстречу де Гишу или же оставаться на месте и ждать его, де Вард отъехал по кругу шагов на пятнадцать, держась все время в тени; когда же противник появился на середине поляны, он хорошенько прицелился и выстрелил, причем мерный галоп лошади скорее помог ему, чем помешал.
Мы уже знаем, что, несмотря на темноту, первая пуля пролетела всего на расстоянии пальца от головы де Гиша.
Де Вард до такой степени был уверен в удаче, что ему показалось, будто де Гиш упал. Он крайне удивился, когда, вглядевшись, обнаружил, что всадник по-прежнему держится в седле. Тогда он поторопился выстрелить вторично, но рука его дрогнула, и он убил лошадь. Этот промах мог бы сослужить ему службу, если бы де Гиш остался лежать на земле, придавленный лошадью. Прежде чем граф высвободился бы, де Вард успел бы снова зарядить пистолет, и де Гиш оказался бы в полной его власти.
Но де Гиш вскочил на ноги, и в его распоряжении были три выстрела. Де Гиш моментально оценил положение вещей. Нужно было предупредить де Варда. Он побежал, чтобы успеть приблизиться к противнику раньше, чем тот перезарядит пистолет.
Де Вард увидел, что граф мчится как ураган. Пуля входила туго и не поддавалась давлению шомпола. Плохо зарядить — значило даром потерять последний выстрел. Зарядить хорошо — значило потерять время, или, вернее, потерять жизнь. Он пришпорил лошадь, и та поднялась на дыбы. Де Гиш повернулся, и в то мгновение, как лошадь опускалась, раздался выстрел, сбивший шляпу де Варда. Де Вард понял, что в его распоряжении несколько секунд; он воспользовался ими, чтобы зарядить пистолет.
Де Гиш, видя, что его противник остался в седле, бросил первый пистолет, теперь уже ненужный, и двинулся к де Варду, подняв второй. Но не успел он сделать трех шагов, как де Вард прицелился в него и выстрелил. В ответ раздался гневный вопль; рука графа судорожно дернулась и повисла как плеть. Пистолет упал на землю.
Де Вард увидел, как де Гиш наклонился, схватил пистолет левой рукой и сделал еще шаг вперед. Минута была роковая.
— Я погиб, — прошептал де Вард, — он только ранен.
Но в то мгновение, когда де Гиш прицеливался в де Варда, его голова, плечи и ноги вдруг ослабели. Он тяжело вздохнул и покатился к ногам лошади де Варда.
— Готово! — прошептал тот.
И, подобрав поводья, пришпорил лошадь, которая, перескочив через безжизненное тело, примчала де Варда в замок. Приехав туда, де Вард с четверть часа обдумывал положение. Он так торопливо покинул поле битвы, что даже не удостоверился, действительно ли де Гиш мертв.
Два предположения возникали во взволнованном уме де Варда: де Гиш мог быть убит либо он только ранен. Если де Гиш убит, следовало ли оставлять его тело на съедение волкам? Это уже была бессмысленная жестокость, так как мертвый де Гиш не мог разгласить тайны дуэли. Если же он не убит, зачем, оставив его без помощи, прослыть дикарем, не способным к великодушию? Это последнее соображение одержало верх.
Де Вард осведомился, где Маникан.
Он узнал, что Маникан спрашивал о де Гише и, не найдя его, лег спать. Де Вард разбудил его и рассказал о дуэли; Маникан не произнес ни слова, но слушал с таким напряжением, какого трудно было ожидать от этого лентяя. Когда де Вард кончил, Маникан промолвил одно только слово:
— Едем!
По дороге воображение Маникана разыгрывалось, и, слушая подробности происшествия, он все больше мрачнел.
— Итак, — сказал он, когда де Вард кончил, — вы считаете, что он мертв?
— Увы, да!
— И вы дрались без свидетелей?
— Это было его желание.
— Странно!
— Вы находите, что это странно?
— Да, это так мало похоже на господина де Гиша.
— Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей правдивости?
— Гм, гм!
— Вы сомневаетесь?
— Немного… Но мои сомнения увеличатся, если я увижу, что бедняга мертв.
— Господин Маникан!
— Господин де Вард!
— Мне кажется, вы оскорбляете меня.
— Это как вам угодно. Что делать! Мне никогда не нравились люди, которые являются и говорят: «Я убил такого-то или такого-то; это большое несчастье, но я убил его честно».
— Тише, мы прибыли.
Действительно, показалась поляна, и на открытом пространстве чернело неподвижное тело убитой лошади. Справа от лошади лежал ничком в траве бедный граф, залитый кровью. Он оставался на прежнем месте и, по-видимому, не сделал за это время ни одного движения.
Маникан бросился на колени, приподнял графа и убедился, что он холоден и весь в крови. Он снова опустил его. Потом, нагнувшись, от стал шарить кругом и нашел пистолет де Гиша.
— Увы! — сказал он, поднимаясь, бледный, как привидение, с пистолетом в руках. — Увы, вы не ошиблись, он действительно мертв!
— Мертв? — повторил де Вард.
— Да, и его пистолет заряжен, — прибавил Маникан, показывая на дуло.
— Да ведь я же сказал вам, что выстрелил в него на ходу, когда он целился в меня.
— Уверены ли вы, что вы дрались с ним на дуэли, господин де Вард? Признаться, я очень опасаюсь, не было ли здесь простого убийства. Нет, нет, выслушайте меня! Вы стреляли три раза, а его пистолет заряжен! Вы убили его лошадь и его самого, а он, де Гиш, один из лучших стрелков Франции, не попал ни в вас, ни в вашу лошадь! Право, господин де Вард, вы привели меня сюда на свое несчастье; пролитая вами кровь ударила мне в голову; я словно опьянел, и, клянусь честью, раз уж представился случай, я размозжу вам череп; господин де Вард, помолитесь за свою душу!
— Господин де Маникан, вы шутите!
— Напротив, говорю совершенно серьезно.
— Вы меня убьете?
— Без всякого угрызения совести, по крайней мере в настоящую минуту.
— Вы дворянин?
— Я был пажом, значит, дворянин.
— Дайте мне тогда возможность защищаться.
— Чтобы вы поступили и со мной так же, как с беднягой де Гишем?
И Маникан, вынув свой пистолет, нахмурил брови и навел его на грудь де Варда. Де Вард не пробовал даже бежать, настолько он был огорошен. Среди воцарившейся зловещей тишины, которая показалась де Варду вечностью, вдруг раздался вздох.
— Вы слышите, — вскричал де Вард, — он жив, жив! На помощь, господин де Гиш! Меня хотят убить!
Маникан попятился и увидел, что граф с трудом приподнялся, опираясь на руку. Маникан отшвырнул пистолет и с радостным криком подбежал к другу.
Де Вард вытер холодный пот, выступивший у него на лбу.
— Вовремя же он очнулся! — прошептал он.
— Что с вами? — спросил Маникан у де Гиша. — Куда вы ранены?
Де Гиш показал ему изувеченные пальцы и окровавленную грудь.
— Граф! — вскричал де Вард. — Меня обвиняют в совершении убийства. Умоляю вас, засвидетельствуйте, что я дрался честно.
— Это правда, — прошептал раненый. — Господин де Вард дрался честно, и кто будет это отрицать, станет моим врагом.
— Сначала помогите мне, сударь, отнести этого беднягу домой, — попросил Маникан, — а потом я дам вам какое угодно удовлетворение, или же, если вы слишком торопитесь, перевяжем рану графа нашими носовыми платками и потом выпустим две оставшиеся пули.
— Благодарю вас, — сказал де Вард. — В течение одного часа я два раза смотрел смерти в лицо; она очень безобразна, и я предпочитаю получить от вас извинения.
Маникан рассмеялся, и его примеру последовал де Гиш, несмотря на физические страдания.
Молодые люди хотели отнести графа, но тот заявил, что чувствует себя достаточно сильным и может идти сам. Пуля разбила ему безымянный палец и мизинец и скользнула по ребру, но не проникла в грудь. Таким образом, де Гиш потерял сознание скорее от боли, чем от раны.
Маникан поддерживал его под руку с одной стороны, де Вард — с другой; так они отвели его в Фонтенбло, к тому самому врачу, который был вызван к умирающему францисканцу, чью власть унаследовал Арамис.
XXI. Королевский ужин
В это время король сидел за столом, и немногочисленные приглашенные заняли места возле него, после того как он обычным жестом пригласил их садиться.
Хотя в эти годы этикет еще не был установлен окончательно, французский двор совершенно порвал с традициями простоты и патриархальной приветливости, которые можно было еще наблюдать при Генрихе IV; подозрительность Людовика XIII мало-помалу изгнала их и заменила внешней пышностью, маскировавшей ничтожество этого короля.
Людовик XIV сидел за отдельным столиком, который, точно председательская кафедра, возвышался над соседними столами; «столиком», сказали мы; поспешим, однако, прибавить, что этот «столик» был все же больше остальных. Кроме того, он был весь заставлен множеством разнообразных блюд: рыбой, дичью, мясом, фруктами, овощами и вареньями.
Молодой и сильный король, страстный охотник, большой любитель различных физических упражнений, обладал вдобавок горячей кровью, как все Бурбоны; а известно, что от этого пищеварение совершается быстро и аппетит скоро появляется вновь.
Людовик XIV был грозный сотрапезник; он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, то он не знал границ в своих похвалах. Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготовляя что-то вроде маседуана, либо пробуя в отдельности и перемежая бокалом старого вина.
Ел он быстро и довольно жадно.
Портос ожидал сигнала д’Артаньяна, по которому следовало приступать к ужину, но, посмотрев на короля, он вполголоса заметил мушкетеру:
— Мне кажется, можно начинать. Его величество дает ободряющий пример. Посмотрите-ка.
— Король ест, — сказал д’Артаньян, — но в то же время разговаривает; устройтесь так, чтобы, если он случайно обратится к вам, у вас рот не был бы набит: это невежливо и некрасиво.
— Тогда лучше не ужинать, — вздохнул Портос. — Между тем, сознаюсь, я голоден. А тут все пахнет так соблазнительно и щекочет мне сразу и обоняние и аппетит.
— И не думайте, пожалуйста, не прикасаться к кушаньям, — улыбнулся д’Артаньян. — Вы оскорбите его величество. Король обыкновенно говорит, что хорошо работает тот, кто хорошо ест, и не любит, чтобы у него за столом плохо ели.
— Как же можно сидеть с пустым ртом, когда ешь? — спросил Портос.
— Да очень просто, — усмехнулся капитан мушкетеров, — нужно только проглотить все, что будет во рту, когда король неожиданно обратится к вам.
— Отлично.
После этого разговора Портос принялся за кушанья с умеренным энтузиазмом.
Король время от времени посматривал на присутствующих и с видом знатока оценивал способности нового гостя.
— Господин дю Валлон! — обратился он к нему.
В это время Портос был занят рагу из зайца и только что положил в рот половину заячьей спинки. Услышав свое имя, он вздрогнул и мощным движением глотки отправил кусок в желудок.
— Слушаю, государь, — пробормотал Портос приглушенным голосом, но довольно внятно.
— Пусть господину дю Валлону передадут это филе из барашка, — приказал король. — Вы любите барашка, господин дю Валлон?
— Государь, я люблю все, — отвечал Портос.
— Все, что мне предлагает ваше величество, — подсказал д’Артаньян.
Король одобрительно кивнул головой.
— Кто много работает, много ест, — продолжал король, восхищенный тем, что у него нашелся такой могучий сотрапезник, как Портос.
Портос получил блюдо с барашком и отвалил часть себе на тарелку.
— Ну, каково? — спросил король.
— Отменно! — спокойно отвечал Портос.
— Есть ли такие нежные барашки в вашей провинции, господин дю Валлон? — продолжал спрашивать король.
— Государь, — сказал Портос, — мне кажется, что в моей провинции, как и повсюду, все лучшее принадлежит королю. Кроме того, я ем барашка иначе, чем это делает ваше величество.
— Как же вы едите его?
— Обыкновенно я велю приготовить себе целого барашка.
— Целого?
— Да, государь.
— Каким же образом?
— А вот каким. Мой повар — он немец, государь, — мой повар начиняет барашка сосисками, которые он выписывает из Страсбурга; колбасками, которые заказывает в Труа; жаворонками, которые он получает из Питивье. Не знаю уж, каким способом он снимает мясо барашка с костей, как курятину, оставляя при этом кожу, которая образует поджаренную корочку. Когда барашка режут ломтями, как огромную колбасу, изнутри течет розовый сок, и на вид приятный и на вкус восхитительный.
И Портос прищелкнул языком.
Король слушал с широко открытыми глазами и, принимаясь за поданного ему тушеного фазана, заметил:
— Вот это едок, которому я позавидовал бы. Каково! Целого барашка!
— Да, государь, целого!
— Подайте этих фазанов господину дю Валлону; я вижу, он знаток.
Приказание было выполнено.
Затем, возвращаясь к барашкам, король спросил:
— А это не слишком жирно?
— Нет, государь; жир вытекает вместе с соком и плавает сверху; тогда мой стольник собирает его серебряной ложкой, нарочно для этого приготовленной.
— Где вы живете? — поинтересовался король.
— В Пьерфоне, государь.
— В Пьерфоне? Где это, господин дю Валлон, недалеко от Бель-Иля?
— Нет, государь, Пьерфон недалеко от Суасона.
— А я думал, что вы говорите мне о барашках, которые пасутся на приморских лугах.
— Нет, государь; луга мои хоть и не приморские, но ничуть не уступают им.
— У вас превосходный аппетит, господин дю Валлон! С вами приятно сидеть за столом.
— Ах, государь! Если бы ваше величество когда-нибудь посетили Пьерфон, мы съели бы вдвоем барашка, потому что и вы не можете пожаловаться на аппетит.
Д’Артаньян энергично толкнул Портоса под столом. Портос покраснел.
— В счастливом возрасте вашего величества, — заговорил Портос, чтобы поправиться, — я служил в мушкетерах, и ничто не могло меня насытить. У вашего величества превосходный аппетит, но ваше величество слишком разборчивы для того, чтобы вас можно было назвать большим едоком.
Вежливость сотрапезника, по-видимому, очень понравилась королю.
— Вы отведаете этих сливок? — спросил он Портоса.
— Государь, ваше величество обращаетесь со мной так милостиво, что я открою вам всю правду.
— Скажите, господин дю Валлон, скажите!
— Из сладких блюд, государь, я признаю только мучные, да и то нужно, чтобы они были очень плотны; от всех этих муссов у меня вздувается живот, и они занимают слишком много места, которым я дорожу и не люблю тратить на пустяки.
— Господа, — воскликнул король, указывая на Портоса, — вот настоящий гастроном! Так кушали наши отцы, которые понимали толк в еде, тогда как мы только поклевываем.
И с этими словами он положил на тарелку белого куриного мяса, перемешанного с ветчиной. Портос, со своей стороны, принялся за куропаток.
Кравчий наполнил бокал его величества.
— Подайте моего вина господину дю Валлону, — приказал король.
Это была большая честь за королевским столом.
Д’Артаньян стиснул колено друга.
— Если вы можете съесть половину кабаньей головы, которая стоит вон там, — сказал он Портосу, — вы через год будете герцогом и пэром.
— Сейчас я примусь за нее, — флегматично отвечал Портос.
Действительно, ему скоро подали голову, потому что королю доставляло удовольствие подзадоривать человека с таким аппетитом; он не посылал Портосу кушаний, которых не пробовал сам; поэтому он отведал и кабаньей головы. Портос не сплоховал: он съел не половину, как предлагал ему д’Артаньян, а три четверти головы.
— Не поверю, — заметил вполголоса король, — чтобы дворянин, который каждый день так хорошо ест и с таким аппетитом, не был самым честным человеком в моем государстве.
— Вы слышите? — шепнул д’Артаньян на ухо своему другу.
— Да, кажется, я заслужил некоторую милость, — отвечал Портос, покачиваясь на стуле.
— Ветер для вас попутный. Да, да, да!
Король и Портос продолжали есть, к общему удовольствию; некоторые из гостей попытались было подражать им из чувства соревнования, но скоро отстали.
Король багровел: прилив крови к лицу означал, что он сыт. В такие минуты Людовик XIV не веселел, как все люди, пьющие вино, а делался мрачным и молчаливым. А Портосом, напротив, овладело бодрое и игривое настроение.
Подали десерт.
Король не думал больше о Портосе; он то и дело посматривал на входную дверь и часто спрашивал, почему так запаздывает г-н де Сент-Эньян.
Наконец в ту минуту, когда его величество, тяжело дыша, заканчивал банку с вареньем из слив, вошел г-н де Сент-Эньян. Глаза короля, уже сильно потускневшие, тотчас заблестели. Граф направился к столу короля, и, когда он подошел, Людовик XIV встал. Вслед за королем поднялись все, даже Портос, который в эту минуту доедал кусок нуги, способной склеить челюсти крокодила. Ужин кончился.
XXII. После ужина
Король взял де Сент-Эньяна под руку и прошел с ним в соседнюю комнату.
— Как вы запоздали, граф! — сказал король.
— Я ждал ответа, государь.
— Неужели она так долго отвечала на то, что я ей писал?
— Государь, ваше величество соблаговолили сочинить стихи; мадемуазель де Лавальер пожелала отплатить королю тою же монетой, то есть золотой.
— Она ответила стихами, де Сент-Эньян? — вскричал король. — Дай их сюда.
И Людовик сломал печать маленького письма, где действительно оказались стихи, которые история сохранила нам; они лучше по замыслу, чем по исполнению.
Они, однако, привели в восхищение короля, и он бурно выразил свой восторг. Но общее молчание, воцарившееся в зале, несколько смутило Людовика, столь чувствительного к требованиям этикета. Он подумал, что его радость может дать повод к нежелательным толкам.
Людовик спрятал письмо в карман; затем, повернувшись в сторону гостей, обратился к Портосу:
— Господин дю Валлон, ваше присутствие доставило мне большое удовольствие, и я буду очень рад видеть вас вновь.
Портос поклонился и, пятясь, вышел из комнаты.
— Господин д’Артаньян, — продолжал король, — вы подождете моих приказаний в галерее; я вам очень признателен за то, что вы познакомили меня с господином дю Валлоном. Господа, завтра я возвращаюсь в Париж по случаю отъезда испанского и голландского послов. Итак, до завтра!
Зала тотчас же опустела.
Король взял де Сент-Эньяна под руку и велел ему еще раз перечитать стихи де Лавальер.
— Как ты их находишь? — спросил он.
— Государь… стихи очаровательны!
— Да, они чаруют меня, и если бы они стали известны…
— То им позавидовали бы поэты; но они их не узнают.
— Вы передали ей мои стихи?
— О, государь, как она их читала!
— Боюсь, что они слабы.
— Мадемуазель де Лавальер о них другого мнения.
— Вы думаете, что они пришлись ей по вкусу?
— Я уверен, государь…
— В таком случае мне нужно ответить.
— Государь… сейчас… после ужина… это утомит ваше величество.
— Пожалуй, вы правы… заниматься после еды вредно.
— Особенно писать стихи; кроме того, в настоящую минуту мадемуазель де Лавальер очень огорчена.
— Чем же?
— Ах, государь, как все наши дамы!
— Что случилось?
— Несчастье с беднягой де Гишем.
— Боже мой, с де Гишем?
— Да, государь, у него разбита кисть, прострелена грудь, он умирает.
— Умирает? Кто вам сказал это?
— Маникан только что отправил его к доктору в Фонтенбло, и слух об этом дошел сюда.
— Бедный де Гиш! Как же это произошло?
— Как это с ним случилось, государь?
— Вы сообщаете мне все очень странным тоном, де Сент-Эньян. Расскажите подробности… что он говорит?
— Он ничего не говорит, государь. Говорят другие.
— Кто именно?
— Те, кто его отнес к доктору, государь.
— Кто же это?
— Не знаю, государь; об этом надо спросить господина де Маникана, господин де Маникан его друг.
— У него много друзей, — сказал король.
— О нет, — возразил де Сент-Эньян, — вы ошибаетесь, государь. У господина де Гиша немало врагов.
— Откуда вы это знаете?
— Королю угодно, чтобы я объяснил?
— Конечно.
— Государь, я слышал о ссоре между двумя придворными.
— Когда?
— Сегодня вечером, перед ужином вашего величества.
— Это ничего не доказывает. Я отдал такие строгие приказания относительно дуэлей, что, мне кажется, никто не посмеет нарушить их.
— Сохрани меня боже кого-нибудь оправдывать! — вскричал де Сент-Эньян. — Ваше величество приказали мне говорить, и я говорю.
— Так расскажите мне, как был ранен граф де Гиш.
— Государь, говорят, что на охоте.
— Сегодня вечером?
— Сегодня вечером.
— Раздроблена рука, прострелена грудь! Кто был на охоте с господином де Гишем?
— Не знаю, государь… Но господин де Маникан знает или должен знать.
— Вы что-то скрываете от меня, де Сент-Эньян.
— Ничего, государь, решительно ничего.
— В таком случае объясните мне, как все произошло; может быть, разорвало мушкет?
— Очень может быть. Но, взвесив все обстоятельства, государь, я думаю, что нет: возле де Гиша был найден заряженный пистолет.
— Пистолет? Разве на охоту ходят с пистолетами?
— Государь, говорят также, что лошадь де Гиша была убита и что труп ее до сих пор лежит на поляне.
— Лошадь? Де Гиш был верхом? Де Сент-Эньян, я ничего не понимаю. Где все это произошло?
— В роще Рошен, на круглой поляне, государь.
— Хорошо, позовите господина д’Артаньяна.
Де Сент-Эньян повиновался. Вошел мушкетер.
— Господин д’Артаньян, — сказал король, — вы выйдете отсюда по запасной лестнице.
— Слушаю, государь.
— Сядете верхом.
— Слушаю, государь.
— И отправитесь в рощу Рошен, на круглую поляну. Вы знаете это место?
— Государь, я два раза дрался там.
— Как! — вскричал король, ошеломленный его ответом.
— Государь, до указа господина кардинала де Ришелье, — отвечал д’Артаньян со своей обычной невозмутимостью.
— Это другое дело, сударь. Итак, вы поедете туда и тщательно осмотрите местность. Там ранили человека, и вы найдете там мертвую лошадь. Вы мне доложите, что вы думаете об этом происшествии.
— Хорошо, государь.
— Разумеется, я хочу выслушать ваше собственное мнение, а не мнение других.
— Вы услышите его через час, государь.
— Запрещаю вам сноситься с кем бы то ни было.
— Исключая человека, который даст мне фонарь, — сказал д’Артаньян.
— Ну, понятно, — рассмеялся король в ответ на эту вольность, которой он не потерпел бы ни от кого, кроме капитана мушкетеров.
Д’Артаньян вышел по запасной лестнице.
— Теперь пусть позовут моего врача, — приказал Людовик.
Через десять минут пришел, запыхавшись, врач.
— Сударь, — обратился к нему король, — вы отправитесь с господином де Сент-Эньяном, куда он вас поведет, и дадите мне отчет о состоянии больного, которого вы увидите.
Врач беспрекословно повиновался: в это время никто уже не решался ослушаться Людовика XIV. Он вышел в сопровождении де Сент-Эньяна.
— Вы же, де Сент-Эньян, пришлите мне Маникана, прежде чем доктор успеет с ним поговорить.
Де Сент-Эньян поклонился и вышел.
XXIII. Как д’Артаньян выполнил поручение короля
В то время как король отдавал эти последние распоряжения, чтобы выяснить истину, д’Артаньян, не теряя ни секунды, побежал в конюшню, взял фонарь, сам оседлал лошадь и направился к месту, указанному его величеством. Согласно данному обещанию, он никого не видел и ни с кем не разговаривал и довел свою добросовестность до того, что обошелся без помощи слуг и конюхов.
Д’Артаньян был из числа людей, которые считают своей обязанностью в трудные минуты выказать все лучшие качества.
Пустив коня галопом, мушкетер через пять минут был в роще, привязал коня к первому попавшемуся дереву и пошел пешком на поляну. Он с полчаса тщательно осматривал ее с фонарем в руках, затем молча сел на лошадь и шагом вернулся в Фонтенбло, погруженный в размышления.
Людовик поджидал его у себя в кабинете. Он был один и что-то писал. С первого же взгляда д’Артаньян заметил, что строчки неравной длины и испещрены помарками. Он заключил, что это были стихи.
Король поднял голову и увидел д’Артаньяна.
— Ну что, сударь, узнали что-нибудь?
— Да, государь.
— Что же вы увидели?
— Приблизительно вот что, государь… — сказал д’Артаньян.
— Я просил у вас точных сведений.
— Я постараюсь быть как можно более точным. Погода благоприятствовала только что произведенному мною расследованию: сегодня вечером шел дождь, и дороги развезло…
— К делу, господин д’Артаньян!
— Государь, ваше величество сказали мне, что на поляне в роще Рошен лежит мертвая лошадь; поэтому я прежде всего стал изучать состояние дорог. Я говорю — дорог, потому что в центре поляны пересекаются четыре дороги. Свежие следы виднелись только на той, по которой я сам приехал. По ней шли две лошади бок о бок; восемь копыт явственно отпечатались на мягкой глине. Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одной лошади опережают следы другой на половину корпуса.
— Значит, вы уверены, что они приехали вдвоем? — спросил король.
— Да, государь. Лошади крупные, шли мерным шагом; они хорошо вымуштрованы, потому что, дойдя до перекрестка, повернули под совершенно правильным углом.
— Дальше!
— Там всадники на минуту остановились, вероятно, для того, чтобы столковаться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и отвечал. Его лошадь рыла ногой землю; это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводья.
— Значит, был поединок?
— Без всякого сомнения.
— Продолжайте, вы тонкий наблюдатель.
— Один из всадников остался на месте — тот, кто слушал; другой переехал поляну и сперва повернулся лицом к своему противнику. Тогда оставшийся на месте пустил лошадь галопом и проскакал две трети поляны, думая, что он едет навстречу своему противнику. Но тот двинулся по краю площадки, окруженной лесом.
— Вам не известны имена, не правда ли?
— Совершенно неизвестны, государь. Но ехавший по опушке сидел на вороной лошади.
— Откуда вы узнали это?
— Несколько волос из ее хвоста остались на колючках кустарника, растущего по краю поляны.
— Продолжайте.
— Другую лошадь мне нетрудно описать, потому что она лежит мертвая на поле битвы.
— Отчего же она погибла?
— От пули, которая пробила ей висок.
— Пистолетной или ружейной?
— Пистолетной, государь. И рана лошади выдала мне тактику того, кто ее убил. Он поехал вдоль опушки леса, чтобы зайти своему противнику во фланг. Я прошел по его следам, видным на траве.
— Следам вороной лошади?
— Да, государь.
— Продолжайте, господин д’Артаньян.
— Теперь, чтобы ваше величество могли ясно представить себе позицию противников, я покину стоявшего всадника и перейду к тому, который скакал галопом.
— Хорошо.
— Лошадь этого всадника была убита наповал.
— Как вы узнали это?
— Всадник не успел соскочить с седла и упал вместе с конем, и я видел след его ноги, которую он с трудом вытащил из-под лошади. Шпора, придавленная тяжестью корпуса, взбороздила землю.
— Хорошо. А что он стал делать, поднявшись на ноги?
— Пошел прямо на противника.
— Все еще находившегося на опушке леса?
— Да, государь. Потом, подойдя к нему ближе, он остановился, заняв удобную позицию, так как его каблуки отпечатались рядом, выстрелил и промахнулся.
— Откуда вы знаете, что он промахнулся?
— Я нашел пробитую пулей шляпу.
— А, улика! — воскликнул король.
— Недостаточная, государь, — холодно отвечал д’Артаньян, — шляпа без инициалов, без герба; на ней красное перо, как на всех шляпах; даже галуны самые обыкновенные.
— И человек с пробитой шляпой стрелял вторично?
— Он сделал уже два выстрела, государь.
— Как вы узнали это?
— Я нашел пистолетные пыжи.
— Что же сталось с другой пулей?
— Она сбила перо со шляпы всадника, в которого была направлена, и срезала березку на противоположной стороне поляны.
— В таком случае всадник на вороной лошади был обезоружен, тогда как у его противника остался еще заряд.
— Государь, пока упавший поднимался, его противник успел зарядить пистолет. Но он очень волновался, и рука его дрожала.
— Откуда вы это знаете?
— Половина заряда просыпалась на землю, и он уронил шомпол, не успев засунуть его на место.
— Вы сообщаете мне удивительные вещи, господин д’Артаньян.
— Достаточно немного наблюдательности, государь, и любой разведчик был бы способен доставить вам эти сведения.
— Слушая вас, можно ясно представить себе всю картину.
— Я действительно мысленно восстановил ее, может быть, с самыми небольшими искажениями.
— Теперь вернемся к упавшему всаднику. Вы сказали, что он шел на своего противника в то время, как тот заряжал пистолет?
— Да, но в то мгновение, как он целился, его противник выстрелил.
— О! — перебил король — И выстрел?..
— Последствия его были ужасны, государь; спешившийся всадник упал ничком, сделав три неверных шага.
— Куда попала пуля?
— В два места: сначала в правую руку, затем в грудь.
— Как же вы могли догадаться об этом? — спросил восхищенный король.
— Очень просто: рукоятка пистолета была вся окровавлена, и на ней виднелся след пули и осколки разбитого кольца. По всей вероятности, раненый потерял два пальца: безымянный и мизинец.
— Относительно руки я согласен; но рана в грудь?
— Государь, на расстоянии двух с половиной футов друг от друга там были две лужи крови. Около одной из этих луж трава была вырвана судорожно сжатой рукой, около другой — только примята тяжестью тела.
— Бедный де Гиш! — воскликнул король.
— Так это был господин де Гиш? — спокойно сказал мушкетер. — У меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству.
— Каким же образом оно возникло у вас?
— Я узнал герб Граммонов на сбруе убитой лошади.
— И вы считаете, что рана его тяжелая?
— Очень тяжелая, потому что он свалился сразу и долго лежал без движения; однако он имел силу уйти при поддержке двух друзей.
— Значит, вы встретили его, когда он возвращался?
— Нет, но я различил следы трех человек: человек, шедший справа, и человек, шедший слева, двигались свободно, легко, средний же тащился с трудом. К тому же на его следах кое-где видны пятна крови.
— Теперь, сударь, после того как вы так отчетливо восстановили всю картину поединка, скажите мне что-нибудь о противнике де Гиша.
— Государь, я его не знаю.
— Как не знаете, ведь вы так ясно видите все?
— Да, государь, — отвечал д’Артаньян, — я вижу все, но не говорю всего, что вижу, и раз этому бедняге удалось скрыться, то я прошу ваше величество разрешить мне сказать вам, что я его не выдам.
— Однако всякий дуэлянт — преступник, сударь.
— Не в моих глазах, ваше величество, — холодно поклонился д’Артаньян.
— Сударь, — вскричал король, — даете ли вы себе отчет в своих словах?
— Вполне, государь, но в моих глазах человек, который хорошо дерется, — человек порядочный. Таково мое мнение. Может быть, вы со мной не согласны; это естественно, вы — государь…
— Господин д’Артаньян, я, однако, приказал…
Д’Артаньян перебил короля почтительным жестом.
— Вы приказали мне разузнать все подробности относительно поединка, государь; они вам доставлены. Если вы прикажете мне арестовать противника господина де Гиша, я исполню приказание, но не требуйте, чтобы я донес на него, так как я откажусь исполнить это требование.
— В таком случае арестуйте его.
— Назовите мне его имя, государь.
Людовик топнул ногой. После минутного размышления он сказал:
— Вы правы — десять, двадцать, сто раз правы.
— Я так думаю, государь, и счастлив, что ваше величество разделяете мое мнение.
— Еще одно слово… Кто оказал помощь де Гишу?
— Не знаю.
— Но вы говорили о двоих… Значит, был секундант?
— Секунданта не было. Больше того, когда господин де Гиш упал, его противник ускакал, не оказав ему помощи.
— Негодяй!
— Что делать, государь, — это следствие ваших распоряжений. Человек дрался честно, избежал смерти и хочет вторично избежать ее. Он невольно вспоминает господина де Бутвиля… Еще бы!
— И делается трусом?
— Нет, проявляет предусмотрительность.
— Итак, он ускакал?
— Да, во всю прыть.
— В каком направлении?
— К замку.
— А потом?
— Потом я уже имел честь сказать вашему величеству, что два человека пришли пешком и увели господина де Гиша.
— Как вы можете доказать, что эти люди пришли после поединка?
— Совершенно неопровержимо: во время поединка дождь перестал, но земля не успела высохнуть, и следы ног ясно отпечатывались на влажной почве. Но после дуэли, когда господин де Гиш лежал без чувств, подсохло, и следы отпечатывались не так отчетливо.
От восхищения Людовик всплеснул руками.
— Господин д’Артаньян, — сказал он, — вы поистине самый ловкий человек в королевстве.
— То же самое думал Ришелье и говорил Мазарини, государь.
— Теперь остается только проверить вашу проницательность.
— О, государь, человеку свойственно ошибаться, — философски произнес мушкетер.
— В таком случае вы не человек, господин д’Артаньян, потому что, мне кажется, вы никогда не ошибаетесь.
— Ваше величество сказали, что мы это проверим.
— Да.
— Каким же образом?
— Я послал за господином де Маниканом, и господин де Маникан сейчас придет.
— Разве господин де Маникан знает тайну?
— У де Гиша нет тайн от господина де Маникана.
Д’Артаньян покачал головой.
— Повторяю, никто не присутствовал на поединке, и если только де Маникан не является одним из тех людей, которые вели графа…
— Тсс! — прошептал король. — Вот он идет. Останьтесь здесь и слушайте.
— Хорошо, государь, — отвечал мушкетер.
В ту же минуту на пороге показались Маникан и де Сент-Эньян.
XXIV. Засада
Король сделал знак мушкетеру, а затем де Сент-Эньяну.
Знак был повелительный, и смысл его был: «Молчите, если дорожите жизнью».
Д’Артаньян, как солдат, отошел в угол. Де Сент-Эньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла.
Маникан, выставив вперед правую ногу, приятно улыбнувшись и грациозно протянув белую руку, сделал реверанс. Король ответил ему кивком.
— Добрый вечер, господин де Маникан, — сказал он.
— Ваше величество оказали мне честь, пригласив к себе, — поклонился Маникан.
— Да, чтобы узнать от вас все подробности несчастного случая с графом де Гишем.
— О, государь, это очень печально!
— Вы были с ним?
— Не совсем, государь.
— Но вы явились на место происшествия через несколько минут после того, как оно случилось?
— Да, государь, приблизительно через полчаса.
— Где же это несчастье произошло?
— Кажется, государь, это место называется поляной в роще Рошен.
— Да, сборный пункт охотников.
— Совершенно верно, государь.
— Расскажите мне все известные вам подробности несчастного случая, господин де Маникан.
— Может быть, ваше величество уже получили сведения? Я боюсь утомить вас повторением.
— Ничего, не бойтесь.
Маникан осмотрелся кругом. Он увидел только д’Артаньяна, прислонившегося к стене, спокойного, благодушного, доброжелательного, и де Сент-Эньяна, с которым он пришел и который по-прежнему стоял у королевского кресла тоже с очень любезным выражением лица. Поэтому Маникан набрался мужества и проговорил:
— Вашему величеству небезызвестно, что на охоте часто бывают несчастные случаи.
— На охоте?
— Да, государь. Я хочу сказать, когда устраивается засада.
— Вот как! — воскликнул король. — Значит, несчастный случай произошел во время засады?
— Да, государь, — подтвердил Маникан, — разве ваше величество этого не знает?
— Только в самых общих чертах, — скороговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. — Итак, по вашим словам, несчастье произошло во время засады?
— Увы, да, государь!
Король помолчал.
— На какого же зверя была устроена засада? — спросил он.
— На кабана, государь.
— Что это де Гишу вздумалось пойти совершенно одному в засаду на кабана? Ведь это мужицкое занятие и годится самое большее для того, у кого нет, как у маршала де Граммона, собак и доезжачих для приличной охоты.
Маникан пожал плечами.
— Молодость безрассудна, — произнес он наставительно.
— Продолжайте, — приказал король.
— Словом, — повиновался Маникан, еле решаясь говорить и медленно произнося одно слово за другим, как переставляет свои ноги человек, идущий по болоту, — словом, государь, бедный де Гиш пошел в засаду совершенно один.
— Один! Вот так охотник! Разве господин де Гиш не знает, что кабан бросается на охотника?
— Как раз это и случилось, государь.
— А он знал, с кем ему придется иметь дело?
— Да, государь, крестьяне видели зверя на картофельных полях.
— Что же это был за зверь?
— Двухгодовалый кабан.
— В таком случае следовало меня предупредить, сударь, что де Гиш хочет совершить самоубийство. Ведь я видел его на охоте и знаю его искусство. Когда он стреляет в кабана, загнанного собаками, он принимает все предосторожности и стреляет из карабина, а на этот раз он отправился на кабана с простыми пистолетами.
Маникан вздрогнул.
— С пистолетами, прекрасно годящимися для дуэли, но не для охоты на кабана!
— Государь, бывают вещи необъяснимые.
— Вы правы, и происшествие, которое нас интересует, принадлежит к их числу. Продолжайте.
Во время этого рассказа де Сент-Эньян, который, может быть, сделал бы Маникану знак не очень увлекаться, должен был хранить полное бесстрастие под пристальным взглядом короля. Таким образом, он совершенно не мог перемигнуться с Маниканом. Что же касается д’Артаньяна, то статуя Молчания в Афинах была более выразительной и шумной, чем он. Маникан, продолжая идти по избранной дороге, все больше запутывался в сетях.
— Государь, — сказал он, — вероятно, дело было так. Де Гиш подстерегал кабана.
— Верхом на коне? — спросил король.
— Верхом. Он выстрелил в зверя и промахнулся.
— Какой же он неловкий!
— Зверь бросился на него.
— И убил лошадь?
— Ах, ваше величество знает об этом?
— Мне сказали, что в роще Рошен, на перекрестке, найдена мертвая лошадь, у меня возникло предположение, что это конь де Гиша.
— Так оно и есть, государь.
— Хорошо, значит, лошадь погибла; что же случилось с де Гишем?
— Де Гиш упал на землю, подвергся нападению кабана и был ранен в руку и в грудь.
— Ужасный случай! Но нужно сознаться, что виноват сам де Гиш. Как можно идти в засаду на такого зверя с одними пистолетами! Он, верно, забыл повесть об Адонисе?
Маникан почесал затылок.
— Действительно, это была большая неосторожность.
— Как вы объясняете ее себе, господин де Маникан?
— Государь, что предписано судьбой, то случится.
— О, да вы фаталист?
Маникан заволновался, чувствуя себя очень неловко.
— Я сердит на вас, господин де Маникан, — сурово начал король.
— На меня, государь?
— Конечно! Вы друг де Гиша, вы знаете, что он способен на такие безумства, и вы не остановили его!
Маникан не знал, как быть, тон короля не был похож на тон человека легковерного. С другой стороны, в нем не слышалось ни суровости, ни настойчивости судебного следователя. В нем звучало больше насмешки, чем угрозы.
— Итак, вы утверждаете, — повторил король, — что найденная мертвая лошадь принадлежала де Гишу?
— Да, да, конечно.
— Это вас удивило?
— Нет, государь. На последней охоте, как, вероятно, помнит ваше величество, таким же образом была убита лошадь под господином де Сен-Мором.
— Да, но у нее был распорот живот.
— Совершенно верно, государь.
— Если бы у коня де Гиша был распорот живот, так же как у лошади господина де Сен-Мора, то я нисколько бы не удивился!
Маникан вытаращил глаза.
— Но меня удивляет, — продолжал король, — что у лошади де Гиша живот цел, зато пробита голова.
Маникан смутился.
— Может быть, я ошибаюсь, — сказал король, — и лошадь де Гиша была поражена не в висок? Согласитесь, господин де Маникан, что это очень странная рана.
— Государь, вы знаете, что лошадь очень умное животное; она, должно быть, пробовала защищаться.
— Но лошадь защищается копытами, а не головой.
— Так, значит, испуганная лошадь упала, — пролепетал Маникан, — и кабан, вы понимаете, государь, кабан…
— Да, все, что касается лошади, я понимаю, а как же всадник?
— Очень просто: от лошади кабан перешел к всаднику и, как я уже имел честь сообщить вашему величеству, раздробил руку де Гиша, когда он собирался выпустить в него второй заряд из пистолета; потом ударом клыка кабан пробил ему грудь.
— Ей-богу, это чрезвычайно правдоподобно, господин де Маникан, и напрасно вы сомневались в вашем красноречии; вы рассказываете превосходно.
— Король бесконечно добр, — смутился Маникан, отвешивая крайне неловкий поклон.
— Однако с сегодняшнего дня я запрещаю моим дворянам ходить в засаду. Ведь это равносильно разрешению дуэли.
Маникан вздрогнул и сделал шаг, собираясь уйти.
— Король удовлетворен? — спросил он.
— Восхищен! Но, пожалуйста, останьтесь, господин де Маникан, — сказал Людовик, — у меня к вам есть дело.
«Гм… гм… — подумал д’Артаньян, — этот послабее нас». И он испустил вздох, который означал: «О, такие люди, как мы! Где они теперь?»
В это мгновение камердинер поднял портьеру и доложил о приходе королевского врача.
— Ах, это господин Вало, который только что посетил господина де Гиша! — вскричал Людовик. — Мы сейчас узнаем о состоянии раненого.
Маникан почувствовал себя еще более неловко, чем прежде.
— Таким образом, у нас по крайней мере будет чиста совесть, — прибавил король.
И взглянул на д’Артаньяна, который и бровью не повел.
XXV. Доктор
Вошел г-н Вало.
Все занимали прежнее положение: король сидел, де Сент-Эньян облокотился на спинку кресла, д’Артаньян стоял, прислонившись к стене, Маникан вытянулся перед королем.
— Вы исполнили мое распоряжение, господин Вало? — спросил король.
— С большой готовностью, государь.
— Побывали у своего коллеги в Фонтенбло?
— Да, государь.
— И видели там господина де Гиша?
— Да, я видел там господина де Гиша.
— В каком он состоянии? Скажите откровенно.
— Очень неважном, государь.
— Кабан все же не растерзал его?
— Кого не растерзал?
— Гиша.
— Какой кабан?
— Кабан, который его ранил.
— Господин де Гиш был ранен кабаном?
— По крайней мере так говорят.
— Скорее его ранил какой-нибудь браконьер…
— Как браконьер?
— Или ревнивый муж, или соперник, который, желая отомстить ему, в него выстрелил.
— Что вы говорите, господин Вало? Разве раны господина де Гиша нанесены не клыками кабана?
— Раны господина де Гиша нанесены пистолетной пулей, которая раздробила ему безымянный палец и мизинец правой руки, после чего засела в мышцах груди.
— Пуля? Вы уверены, что господин де Гиш ранен пулей? — с притворным изумлением воскликнул король.
— Настолько уверен, что могу показать ее. Вот она, государь.
И он поднес королю сплющенную пулю. Король посмотрел на нее, но в руки не взял.
— Эта штука была у него в груди? — спросил он.
— Не вполне. Пуля не проникла вглубь, она, как вы видите, сплющилась, ударившись, вероятно, о грудную кость.
— Боже мой, — печально вздохнул король, — почему же вы не сообщили мне об этом, господин де Маникан?
— Государь…
— Что это за выдумка о кабане, засаде, ночной охоте? Говорите же!
— Ах, государь!..
— Мне кажется, что вы правы, — обратился король к капитану мушкетеров, — произошел поединок.
Король очень хорошо умел компрометировать своих приближенных и сеять раздор между ними.
Маникан с упреком посмотрел на мушкетера. Д’Артаньян понял этот взгляд и не пожелал оставаться под подозрением. Он сделал шаг вперед и сказал:
— Государь, ваше величество приказали мне осмотреть поляну в роще Рошен и доложить, что, по моему мнению, происходило на ней. Я сообщил вашему величеству результаты своих наблюдений, но никого не выдавал. Ваше величество первый назвали графа де Гиша.
— Хорошо, хорошо, сударь! — надменно произнес король. — Вы исполнили свой долг, и я доволен вами, этого должно быть для вас достаточно. Но вы, господин де Маникан, не исполнили своего долга, вы солгали мне.
— Солгал, государь? Это слишком резкое слово.
— Придумайте другое.
— Государь, я не буду придумывать. Я уже имел несчастье не угодить вашему величеству и нахожу, что мне остается лишь покорно снести все упреки, которыми вашему величеству захочется осыпать меня.
— Вы правы, сударь, я всегда бываю недоволен, когда от меня скрывают правду.
— Иногда, государь, ее не знают.
— Перестаньте лгать, или я удвою наказание.
Маникан побледнел и поклонился. Д’Артаньян сделал еще шаг вперед, решившись вмешаться, если все возраставший гнев короля перейдет границы.
— Сударь, — продолжал король, — вы видите, что дальнейшее отрицание бесполезно. Теперь ясно, что господин де Гиш дрался.
— Я не отрицаю этого, государь, и ваше величество поступили бы великодушно, не принуждая дворянина лгать.
— Кто вас принуждал?
— Государь, господин де Гиш — мой друг. Ваше величество запретили дуэли под страхом смерти. Ложь могла спасти моего друга, и я солгал.
— Правильно, — прошептал д’Артаньян, — теперь он ведет себя молодцом!
— Сударь, — возразил король, — вместо того чтобы лгать, следовало помешать ему драться.
— Государь, вашему величеству, первому дворянину Франции, хорошо известно, что мы, дворяне, никогда не считали господина де Бутвиля опозоренным потому, что он был казнен на Гревской площади. Класть голову на плаху не позор, позор бежать от своего врага.
— Хорошо, — согласился Людовик XIV, — я хочу дать вам средство все поправить.
— Если это средство прилично для дворянина, я с большой готовностью воспользуюсь им, государь.
— Имя противника господина де Гиша?
— Ого! — прошептал д’Артаньян. — Неужели возвращаются времена Людовика Тринадцатого?..
— Государь! — с упреком воскликнул Маникан.
— По-видимому, вы не хотите назвать его? — спросил король.
— Государь, я его не знаю.
— Браво! — крикнул д’Артаньян.
— Господин Маникан, отдайте вашу шпагу капитану.
Маникан грациозно поклонился, отстегнул шпагу и с улыбкой вручил ее мушкетеру.
Но тут вмешался де Сент-Эньян.
— Государь, — начал он, — прошу позволения вашего величества…
— Говорите, — сказал король, может быть, в глубине души довольный, что нашелся человек, изъявивший готовность обуздать его гнев.
— Маникан, вы молодец, и король оценит ваш поступок; но кто слишком ревностно защищает своих друзей — вредит им. Маникан, вы знаете имя человека, о котором спрашивает у вас его величество?
— Да, знаю.
— В таком случае назовите его.
— Если б я должен был сделать это, я бы уже сказал.
— Тогда скажу я, ибо не вижу никакой надобности быть, подобно вам, слишком щепетильным.
— Воля ваша, однако мне кажется…
— Довольно великодушничать. Я не позволю, чтобы из-за своего великодушия вы угодили в Бастилию. Говорите, или это сделаю я.
Маникан был человек умный и понял, что на основании его поведения присутствующие уже составили о нем благоприятное мнение. Теперь нужно было только укрепить это мнение, вернув расположение короля.
— Говорите, сударь, — обратился он к де Сент-Эньяну. — Я сделал все, что требовала от меня совесть, и требования ее были так повелительны, — прибавил он, обращаясь к королю, — что заставили меня ослушаться приказания вашего величества; но ваше величество, надеюсь, простит меня, узнав, что я должен был охранять честь одной дамы.
— Дамы? — с беспокойством спросил король.
— Да, сударь.
— Причиной поединка была дама?
Маникан поклонился.
Король встал и подошел к Маникану.
— Если это значительная особа, — произнес он, — я не посетую на ваши уловки, напротив.
— Государь, все, что касается придворных короля или слуг его брата, значительно в моих глазах.
— Моего брата? — повторил Людовик XIV с некоторым замешательством. — Причиной поединка была дама из свиты моего брата?
— Или принцессы.
— Принцессы?
— Да, государь.
— Значит, эта дама?..
— Фрейлина ее высочества герцогини Орлеанской.
— И вы говорите, что господин де Гиш дрался из-за нее?
— Да, и на этот раз я не лгу.
На лице Людовика выразилось беспокойство.
— Господа, — распорядился он, обращаясь к зрителям этой сцены, — благоволите удалиться на несколько минут, мне нужно остаться наедине с господином де Маниканом. Я знаю, что ему нужно сообщить в свое оправдание весьма деликатные вещи, которые он не решается огласить при свидетелях… Возьмите назад свою шпагу, господин де Маникан.
Маникан пристегнул шпагу.
— Удивительное, однако, самообладание у этого молодого человека, — прошептал мушкетер, взяв под руку де Сент-Эньяна и выходя вместе с ним из комнаты.
— Он выпутается, — сказал де Сент-Эньян на ухо мушкетеру.
— И с честью, граф!
Незаметно от короля Маникан бросил благодарный взгляд на де Сент-Эньяна и мушкетера.
— Знаете, — продолжал д’Артаньян, переступая порог, — у меня было неважное мнение о новом поколении. Теперь же я вижу, что ошибался и наша молодежь не так уж плоха.
Вало вышел вслед за фаворитом и капитаном. Король и Маникан остались в кабинете одни.
XXVI. Д’Артаньян признает, что он ошибся и что прав был Маникан
Король подошел к двери, убедился, что никто не подслушивает, и быстро вернулся к своему собеседнику.
— Теперь мы одни, господин де Маникан, прошу вас объясниться.
— С полной откровенностью, государь, — отвечал молодой человек.
— Прежде всего, — начал король, — да будет вам известно, что ни к чему я не отношусь с таким уважением, как к чести дам.
— Поэтому-то, государь, я и щадил вашу деликатность.
— Да, теперь я понимаю вас. Итак, вы говорите, что дело касалось одной из фрейлин моей невестки и что лицо, о котором идет речь, противник де Гиша, — словом, человек, которого вы не хотите называть…
— Но которого назовет вам, государь, господин де Сент-Эньян…
— Да, так вы говорите, что этот человек оскорбил одну из фрейлин принцессы?
— Да, мадемуазель де Лавальер, государь.
— А! — произнес король тоном человека, ожидавшего, что он услышит это имя, хотя удар поразил его в самое сердце. — Значит, подверглась оскорблению мадемуазель де Лавальер?
— Я не говорю, что она подверглась оскорблению, государь.
— Но в таком случае…
— Я говорю, что о ней отзывались в не совсем почтительных выражениях.
— В не совсем почтительных выражениях! И вы отказываетесь назвать мне имя этого наглеца?..
— Государь, я считал, что этот вопрос уже решен и ваше величество не станет больше заставлять меня играть роль доносчика.
— Это верно, вы правы, — согласился король, сдерживая волнение. — К тому же мне все равно скоро станет известно имя человека, которого я должен буду наказать.
Маникан увидел, что дело принимает новый оборот. Что же касается короля, то он заметил, что увлекся и зашел слишком далеко. Он овладел собой и продолжал:
— Я накажу его не потому, что речь идет о мадемуазель де Лавальер, хотя я питаю к ней особенное уважение, но потому, что предметом ссоры была женщина. А я требую, чтобы при моем дворе женщин уважали и чтобы не ссорились из-за них.
Маникан поклонился.
— Теперь, господин де Маникан, — продолжал король, — что говорили о мадемуазель де Лавальер?
— Разве ваше величество не догадываетесь?
— Я?
— Ваше величество хорошо знает, какие шутки позволяют себе молодые люди.
— Вероятно, говорили, что она кого-нибудь любит? — решился спросить король.
— Весьма вероятно.
— Но мадемуазель де Лавальер имеет право любить кого ей вздумается, — сказал король.
— Именно это и утверждал де Гиш.
— И из-за этого он дрался?
— Да, государь, только из-за этого.
Король покраснел.
— И больше вам ничего не известно?
— Относительно чего, государь?
— Относительно того любопытного предмета, о котором вы сейчас рассказываете.
— Что же королю угодно знать?
— Например, имя человека, которого любит Лавальер и, по мнению противника де Гиша, не вправе любить?
— Государь, я ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не выведывал; но я считаю де Гиша человеком благородным, и если он временно занял место покровителя де Лавальер, то лишь потому, что этот покровитель — лицо слишком высокопоставленное для того, чтобы самому вступиться за нее.
Эти слова были более чем прозрачны; король покраснел, но на этот раз от удовольствия. Он ласково похлопал Маникана по плечу.
— Я вижу, что вы не только умный молодой человек, но и прекрасный дворянин, а ваш друг де Гиш — рыцарь совсем в моем вкусе; вы ему передадите это, не правда ли?
— Итак, ваше величество прощаете меня?
— Совершенно.
— И я свободен?
Король улыбнулся и протянул Маникану руку. Маникан схватил ее и поцеловал.
— Кроме того, — прибавил король, — вы чудесный рассказчик.
— Я, государь?
— Вы превосходно рассказали мне о несчастном случае с де Гишем. Я так ясно вижу кабана, выскакивающего из леса, вижу падающую лошадь, вижу, как зверь, бросив коня, кидается на всадника. Вы не рассказываете, сударь, — вы рисуете картину!
— Государь, я думаю, что вашему величеству угодно посмеяться надо мной, — печально улыбнулся Маникан.
— Напротив, — отвечал серьезно Людовик XIV, — я не только не смеюсь, господин де Маникан, но выражаю желание, чтобы вы рассказали об этом случае в большом обществе.
— О случае на охоте?
— Да, в том виде, как вы передали его мне, не изменяя ни слова, понимаете?
— Вполне, государь.
— И вы расскажете?
— При первом же удобном случае.
— Теперь позовите господина д’Артаньяна. Надеюсь, что вы больше не боитесь его?
— О, государь, как только я исполнился уверенности в благосклонности вашего величества ко мне, я не боюсь никого в мире!
— Подите же, позовите, — сказал король.
Маникан открыл дверь.
— Господа, — произнес он, — король зовет вас.
Д’Артаньян, де Сент-Эньян и Вало вернулись.
— Господа, — начал король, — я призвал вас с целью заявить, что объяснение господина де Маникана вполне удовлетворило меня.
Д’Артаньян и де Сент-Эньян одновременно взглянули на доктора, и взгляд их, казалось, обозначал: «Ну, что я вам говорил?»
Король отвел Маникана к двери и тихонько шепнул ему:
— Пусть господин де Гиш хорошенько лечится, я желаю ему скорого выздоровления. Как только он поправится, я поблагодарю его от имени всех дам, но хорошо было бы, если бы такие случаи не повторялись.
— Государь, даже если бы ему предстояло умереть сто раз, он сто раз повторит то, что сделал, если будет затронута честь вашего величества.
Это было откровенно. Но, как мы уже сказали, Людовик XIV любил фимиам и был не очень требовательным относительно его качества, раз его воскуряли.
— Хорошо, хорошо, — отпустил он Маникана, — я сам повидаюсь с де Гишем и образумлю его.
Маникан попятился к двери.
Тогда король обратился к трем свидетелям этой сцены:
— Скажите мне, д’Артаньян, каким образом вышло, что ваше зрение, обыкновенно такое тонкое, помутилось?
— У меня помутилось зрение, государь?
— Конечно.
— Должно быть, так, раз это утверждает ваше величество. Но какой случай имеет в виду ваше величество?
— Да тот, что произошел в роще Рошен.
— А-а-а!
— Конечно. Вы видели следы двух лошадей и двух человек, вы мысленно восстановили подробности поединка. Представьте, что никакого поединка не было; чистейшая иллюзия!
— А-а-а! — снова произнес д’Артаньян.
— То же самое относительно гарцевания лошади и следов борьбы. У де Гиша шла борьба только с кабаном, и ни с кем больше; однако эта борьба была, по-видимому, долгой и ожесточенной.
— А-а-а! — в третий раз произнес д’Артаньян.
— И подумать только: рассказ ваш показался мне вполне правдоподобным, — вероятно, оттого, что вы говорили с большой уверенностью.
— Действительно, государь, у меня, должно быть, помутилось в глазах, — добродушно кивнул д’Артаньян, приведя короля в восторг своим ответом.
— Значит, вы согласны с версией господина де Маникана?
— Конечно, государь!
— И для вас теперь ясно, как было дело?
— Оно представляется мне совсем иначе, чем полчаса тому назад.
— Как же вы объясняете эту перемену мнения?
— Самой простой причиной, государь. Полчаса тому назад, когда я возвращался из рощи Рошен, у меня был только жалкий фонарь из конюшни…
— А сейчас?
— Сейчас мне светят все люстры вашего кабинета, а кроме того, глаза вашего величества, источающие свет, как два солнца!
Король рассмеялся, де Сент-Эньян захохотал.
— Вот и господин Вало, — продолжал д’Артаньян, высказывая слова, которые вертелись на языке короля, — не только вообразил, что господин де Гиш был ранен пулей, но ему показалось также, что он вынул эту пулю у него из груди.
— Право, — начал Вало, — я…
— Не правда ли, вам это показалось? — настаивал д’Артаньян.
— То есть не только показалось, но и сейчас еще кажется, готов вам в этом поклясться.
— А между тем, дорогой доктор, вам это приснилось.
— Приснилось?
— Рана господина де Гиша — сон; пуля — сон… Не говорите больше никому об этом, иначе вас засмеют.
— Хорошо придумано, — одобрил король, — д’Артаньян дает вам прекрасный совет, сударь. Не рассказывайте больше никому о своих снах, господин Вало, и, даю вам слово, вы не раскаетесь. Покойной ночи, господа. Ах, какая опасная вещь — засада на кабана!
— Да, она очень, очень опасна — засада на кабана! — громко повторил д’Артаньян.
И он произносил эту фразу во всех комнатах, по которым проходил.
— Теперь, когда мы одни, — обратился король к Сент-Эньяну, — назови мне имя противника де Гиша.
Де Сент-Эньян посмотрел на короля.
— Не смущайся, — ободрил его король, — ты ведь знаешь, что мне придется простить.
— Де Вард, — сказал де Сент-Эньян.
— Хорошо.
Затем, направляясь в спальню, Людовик XIV прибавил:
— Простить — не значит забыть.
XXVII. Как хорошо иметь две тетивы на своем луке
Маникан выходил от короля очень довольный, что ему удалось так счастливо выпутаться, как вдруг, спустившись с лестницы, он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он оглянулся и увидел Монтале, которая, наклонившись к нему, таинственно прошептала:
— Сударь, пожалуйте сюда поскорее, прошу вас.
— Куда, мадемуазель? — спросил Маникан.
— Прежде всего настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошел бы за мной, не требуя никаких объяснений.
— Хорошо, мадемуазель, — согласился Маникан, — я готов вести себя по-рыцарски.
— Слишком поздно. Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе.
— Вот как, к принцессе?
И он пошел за Монтале, которая бежала впереди, легкая, как Галатея.
«На этот раз, — говорил себе Маникан, — охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны. Попробуем, однако, а если понадобится… ей-богу, если понадобится, выдумаем еще что-нибудь».
Монтале все бежала.
«Как это утомительно, — думал Маникан, — напрягать одновременно ум и ноги».
Наконец они пришли. Принцесса окончила свой ночной туалет и была в изящном пеньюаре; она кого-то ждала с явным нетерпением. Поэтому Монтале и Маникан застали ее подле самых дверей.
— Наконец-то! — воскликнула она.
— Вот господин де Маникан, — представила Монтале.
Маникан почтительно поклонился.
Принцесса знаком приказала Монтале удалиться. Фрейлина повиновалась. Принцесса молча проводила ее глазами и подождала, пока двери за нею закрылись; затем, обращаясь к Маникану, молвила:
— Что случилось? Говорят, в замке кого-то ранили?
— К несчастью, да, принцесса… господина де Гиша.
— Да, господина де Гиша, — повторила принцесса. — Мне уже известно об этом, но только по слухам. Значит, несчастье случилось действительно с господином де Гишем?
— С ним самим, принцесса.
— Знаете ли вы, господин де Маникан, — с живостью сказала принцесса, — что король питает отвращение к дуэлям?
— Конечно, принцесса. Но дуэль с диким зверем не осуждается его величеством.
— Надеюсь, вы не оскорбите меня предположением, будто я поверю в нелепую басню, пущенную неизвестно для чего, согласно которой господин де Гиш ранен кабаном. Нет, нет, сударь, истина обнаружена, а в настоящую минуту господин де Гиш не только страдает от раны, но подвергается еще опасности лишиться свободы.
— Увы, принцесса, — вздохнул Маникан, — мне это прекрасно известно, но что же делать?
— Вы видели его величество?
— Да, принцесса.
— Что вы сказали ему?
— Я рассказал ему, как господин де Гиш сидел в засаде, как из рощи Рошен выскочил кабан, как господин де Гиш выстрелил в него и как, наконец, рассвирепевший зверь бросился на стрелка, убил его лошадь и серьезно ранил его самого.
— И король всему этому поверил?
— Вполне.
— Вы меня удивляете, господин де Маникан, вы меня очень удивляете!
И принцесса принялась расхаживать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на Маникана, неподвижно и бесстрастно стоявшего на месте, которое он занял, войдя в комнату. Наконец принцесса остановилась.
— А между тем, — начала она, — все в один голос объясняют эту рану совсем иначе.
— Каким же образом, принцесса? — спросил Маникан. — Простите, что я задаю этот нескромный вопрос вашему высочеству.
— И это спрашиваете вы, ближайший друг господина де Гиша, поверенный его тайн?
— Ближайший друг — да; поверенный его тайн — нет. Де Гиш из тех людей, которые никому не доверяют своих тайн. Де Гиш очень скрытен, принцесса.
— Хорошо, в таком случае я буду иметь удовольствие открыть вам эти тайны, которые так хорошо умеет прятать господин де Гиш, — с досадой молвила принцесса, — ибо ведь король, может быть, вторично пожелает расспросить вас, и если вы снова расскажете ему эту небылицу, то он, пожалуй, вам больше не поверит.
— Мне кажется, ваше высочество, что вы заблуждаетесь относительно короля. Его величество остался очень доволен мною, клянусь вам.
— В таком случае позвольте мне сказать вам, господин де Маникан, что это доказывает лишь нетребовательность его величества.
— Я полагаю, что ваше высочество ошибается. Его величество, как известно, принимает в расчет только серьезные доводы.
— И вы думаете, что король поблагодарит вас за вашу подобострастную ложь, когда узнает завтра, что господин де Гиш затеял ссору из-за своего друга, господина де Бражелона, и что ссора эта привела к поединку?
— Ссора из-за господина де Бражелона? — наивнейшим тоном произнес Маникан. — Что вашему высочеству угодно сказать этим?
— Что же тут удивительного? Господин де Гиш подозрителен, раздражителен, легко забывается.
— Я, принцесса, напротив, считаю де Гиша очень терпеливым человеком, который раздражается только в тех случаях, когда для этого есть серьезный повод.
— Разве вступиться за честь друга не серьезный повод? — улыбнулась принцесса.
— О, конечно, принцесса! Особенно для такого сердца, как у него.
— Не станете же вы отрицать, что господин де Бражелон друг господина де Гиша?
— Большой друг.
— Так вот, господин де Гиш вступился за честь господина де Бражелона, и так как господина де Бражелона здесь нет и он не мог драться, то граф дрался вместо него.
Маникан с улыбкой слушал принцессу и раза два или три сделал движение головой и плечами, означавшее: «Если вы хотите во что бы то ни стало…»
— Что же вы молчите? — нетерпеливо спросила принцесса. — Видно, вы не разделяете моего мнения и хотите что-то возразить?
— Я вам могу сказать, принцесса, только одно: я не понимаю ни слова из всего того, что вы изволили рассказать мне.
— Как! Вы ничего не понимаете в ссоре господина де Гиша с господином де Вардом? — в раздражении воскликнула принцесса.
Маникан молчал.
— Ссоре, — продолжала она, — возникшей из-за одной довольно недоброжелательной и довольно обоснованной фразы относительно поведения одной дамы.
— Ах, одной дамы! Это другое дело, — протянул Маникан.
— Вы начинаете понимать, не правда ли?
— Простите, ваше высочество, но я не решаюсь…
— Вы не решаетесь? — спросила принцесса, выведенная из себя. — В таком случае решусь я!
— Принцесса, принцесса! — остановил Маникан, делая вид, что он страшно испуган. — Взвесьте хорошенько, что вы хотите сказать.
— Можно подумать, что, если бы я была мужчиной, вы бы вызвали меня на дуэль, несмотря на запрещение его величества, как господин де Гиш вызвал на дуэль господина де Варда из-за сомнений последнего в добродетели мадемуазель де Лавальер.
— Мадемуазель де Лавальер! — вскричал Маникан, даже подпрыгнув от изумления, точно он меньше всего на свете ожидал услышать это имя.
— Что с вами, господин де Маникан, почему вы подскочили? — иронически усмехнулась принцесса. — Неужели и вы имеете дерзость сомневаться в ее добродетели?
— Но во всей этой истории не было и речи о добродетели мадемуазель де Лавальер, принцесса.
— Как! Два человека стрелялись из-за женщины, а вы говорите, что она здесь ни при чем и что о ней не было речи? Я и не знала, что вы такой ловкий царедворец, господин де Маникан.
— Извините, принцесса, — сказал молодой человек, — мы совсем не понимаем друг друга; вы делаете мне честь говорить со мной на одном языке, я же, по-видимому, говорю с вами на другом.
— Что такое?
— Извините, мне показалось, будто вашему высочеству было угодно сказать, что господин де Гиш и де Вард дрались из-за мадемуазель де Лавальер.
— Да.
— Из-за мадемуазель де Лавальер, не правда ли? — повторил Маникан.
— Боже мой, я не утверждаю, что господин де Гиш лично принял к сердцу интересы мадемуазель де Лавальер, он вступился за нее по полномочию.
— По полномочию?
— Полно, не разыгрывайте изумления! Разве вам не известно, что господин де Бражелон — жених мадемуазель де Лавальер и, отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга, господина де Гиша, блюсти честь интересующей его особы?
— Больше я не произнесу ни слова; ваше высочество осведомлены гораздо лучше меня.
— Обо всем, предупреждаю вас.
Маникан рассмеялся, и его смех чуть не вывел из себя принцессу, которая, как известно, не отличалась большой сдержанностью.
— Принцесса, — с поклоном продолжал Маникан, — предадим все это дело забвению, так как все равно оно никогда не разъяснится вполне.
— Вы ошибаетесь, оно совершенно ясно! Король узнает, что де Гиш выступил на защиту этой авантюристки, которая напускает на себя вид важной персоны; он узнает, что господин де Бражелон избрал охранителем сада Гесперид своего друга, господина де Гиша, и что последний укусил маркиза де Варда, осмелившегося протянуть руку к золотому яблочку. А вам небезызвестно, господин де Маникан, — ведь вы знаете очень многое, — что и королю очень хочется полакомиться этим яблочком, и он, пожалуй, не особенно поблагодарит господина де Гиша за то, что тот взял на себя роль дракона. Теперь вам ясно, или нужны еще какие-нибудь сведения? Говорите, спрашивайте.
— Нет, принцесса, с меня довольно.
— Однако да будет вам известно, господин де Маникан, что негодование его величества приведет к самым ужасным последствиям. У государей с таким характером, как у короля, любовная страсть подобна урагану.
— Который вы усмирите, принцесса.
— Я? — вскричала принцесса с ироническим жестом. — Я? На каком основании?
— Потому что вы не переносите несправедливости, принцесса.
— Разве, по-вашему, несправедливо мешать королю обделывать свои любовные дела?
— Но все же вы вступитесь за господина де Гиша?
— Вы забываетесь, сударь, — надменным тоном сказала принцесса.
— Напротив, принцесса, я рассуждаю совершенно здраво и повторяю, что вы заступитесь за господина де Гиша перед королем.
— Я?
— Да.
— С какой стати?
— Потому что интересы господина де Гиша — ваши интересы, — горячим шепотом проговорил Маникан, глаза которого загорелись.
— Что вы хотите сказать?
— Я говорю, принцесса, что меня удивляет, каким образом ваше высочество не догадались, что имя Лавальер в этой защите, взятой на себя господином де Гишем вместо отсутствующего господина де Бражелона, было только предлогом.
— Предлогом?
— Да.
— Предлогом для чего? — прошептала принцесса; взгляды Маникана были так красноречивы, что она начала понимать.
— А теперь, принцесса, — проговорил молодой человек, — мне кажется, мною сказано достаточно, чтобы убедить ваше высочество не нападать в присутствии короля на беднягу де Гиша; и без того на него обрушится вся вражда той партии, которая и вам не сочувствует.
— Мне кажется, наоборот, вы хотите сказать, что на графа вознегодуют все, питающие неприязнь к мадемуазель де Лавальер, а может быть, и некоторые из расположенных к ней.
— Принцесса, неужели ваше упрямство простирается так далеко, что вы отказываетесь понять слова преданного друга? Неужели мне придется под страхом навлечь вашу немилость назвать, вопреки своему желанию, имя особы, которая была истинной причиной ссоры?
— Особы? — спросила принцесса, краснея.
— Неужели я должен буду, — повысил голос Маникан, — изображать вам негодование, раздражение и бешенство бедняги де Гиша, когда до него доходят слухи, распускаемые об этой особе? Неужели мне придется, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаюсь произнести, — неужели мне придется напоминать вам сцены между принцем и милордом Бекингэмом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога? Неужели я должен буду рассказывать вам о всех стараниях графа угодить особе, ради которой он только и живет, которой только и дышит, оградить ее от всякого беспокойства, защитить ее? Хорошо, я это сделаю, и когда напомню вам все, может быть, вы поймете, почему граф, истощивший терпение, измученный злословием де Варда, воспылал жаждой мести при первом же непочтительном слове последнего об этой особе.
Принцесса закрыла лицо руками.
— Ах, господин де Маникан, — вскричала она, — взвешиваете ли вы ваши слова и помните ли, кому их говорите?
— Тогда, принцесса, — продолжал Маникан, делая вид, что не слышал восклицания принцессы, — вас больше не удивит ни горячее желание графа затеять эту ссору, ни та удивительная ловкость, с которой он перенес ее на почву, чуждую вашим интересам. Им было проявлено необыкновенное искусство и хладнокровие; и если особа, ради которой граф де Гиш дрался и пролил кровь, действительно должна быть признательна раненому, то, право, не за пролитую кровь, не за перенесенные им страдания, а за его заботы об охране ее чести, которая для него более драгоценна, чем его собственная.
— Ах, — воскликнула принцесса, забыв о присутствии Маникана, — неужели все это случилось действительно из-за меня?
Маникан мог наконец перевести дух; он честно заслужил этот отдых.
Принцесса тоже некоторое время оставалась погруженной в печальные мысли. Ее волнение можно было угадать по порывистому дыханию, по томному взгляду, по движениям руки, которую она то и дело прижимала к сердцу. Однако и в эту минуту она не перестала быть кокеткой; ее кокетство, как огонь, находило для себя пищу повсюду.
— В таком случае, — сказала она, — граф угодил двум лицам сразу. Ведь господин де Бражелон тоже должен быть очень признателен господину де Гишу, тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь Лавальер была защищена этим великодушным рыцарем.
Маникан понял, что в сердце принцессы еще остались некоторые сомнения и его упорное сопротивление подогрело их.
— Вот уж подлинно прекрасную услугу оказал он мадемуазель де Лавальер и господину де Бражелону! Дуэль наделала шуму, который порядком обесславит эту девицу и неминуемо поссорит ее с виконтом. Таким образом, пистолетный выстрел господина де Варда одновременно убил честь женщины, счастье мужчины и, может быть, смертельно ранил одного из лучших дворян Франции. Ах, принцесса, у вас холодный разум, он всех осуждает и никого не оправдывает!
Эти слова Маникана унесли последние сомнения, еще оставшиеся не в сердце, а в уме принцессы. И не щепетильная принцесса, не подозрительная женщина, а любящее сердце болезненно почувствовало опасность, нависшую над де Гишем.
— Смертельно ранен! — задыхаясь, прошептала она. — Неужели вы сказали, что он смертельно ранен, господин де Маникан?
Маникан ответил только глубоким вздохом.
— Итак, вы говорите, что граф опасно ранен? — продолжала принцесса.
— У него раздроблена кисть руки и прострелена грудь, принцесса.
— Боже мой, боже мой! — воскликнула принцесса в лихорадочном возбуждении. — Ведь это ужасно, господин де Маникан! Вы говорите, раздроблена рука и пуля в груди? И все это наделал этот трус, этот негодяй, этот убийца де Вард! Положительно, на небе нет справедливости.
Маникан, по-видимому, был сильно взволнован. Действительно, он вложил много энергии в последнюю часть своей защитительной речи.
Что же касается принцессы, то она совсем позабыла о приличиях; когда в ней просыпалась страсть — гнев или любовь, — ничто не могло сдержать ее порыва. Принцесса подошла к Маникану, беспомощно опустившемуся в кресло; сильное волнение как бы давало ему право нарушить требования этикета.
— Сударь, — попросила принцесса, беря его за руку, — будьте откровенны.
Маникан поднял голову.
— Положение господина де Гиша действительно серьезно? — спросила принцесса.
— Очень серьезно, принцесса, — отвечал Маникан, — во-первых, вследствие потери крови, вызванной повреждением артерии на руке, а затем из-за раны в груди, где, по мнению доктора, пуля задела какой-то важный орган.
— Значит, он может умереть?
— Да, может, принцесса, и даже без утешительного сознания, что вам известно о его самопожертвовании.
— Вы ему скажете.
— Я?
— Да, ведь вы его друг.
— Нет, принцесса, я расскажу господину де Гишу, если только несчастный еще в состоянии выслушать меня, лишь то, что я видел, то есть как вы к нему жестоки.
— Сударь, это было бы варварством с вашей стороны.
— Нет, принцесса, я расскажу ему всю правду; ведь у человека его возраста организм могуч, а врачи, которые лечат его, люди знающие и искусные. И если бедный граф поправится, то я не хочу подвергать его опасности умереть от другой раны, раны, нанесенной в сердце.
И с этими словами Маникан встал и почтительно поклонился, собираясь уходить.
— Скажите по крайней мере, — почти умоляюще остановила его принцесса, — в каком состоянии находится больной и какой врач лечит его?
— Состояние графа очень плохое, принцесса, а лечит графа врач его величества господин Вало с помощью одного коллеги, к которому перенесли господина де Гиша.
— Как! Он не в замке?
— Увы, принцесса, бедняге было так плохо, что его не могли доставить сюда.
— Дайте мне его адрес, сударь, — живо сказала принцесса, — я пошлю справиться о его здоровье.
— Улица Фер; кирпичный дом с белыми ставнями; на дверях написана фамилия врача.
— Вы идете к раненому, господин де Маникан?
— Да, принцесса.
— В таком случае окажите мне одну любезность.
— Я весь к услугам вашего высочества.
— Сделайте то, что вы собирались сделать: вернитесь к господину де Гишу, удалите всех находящихся при нем и уйдите сами.
— Принцесса…
— Не будем терять времени на бесплодные пререкания. Дело вот в чем: не ищите тут никакого скрытого смысла, довольствуйтесь тем, что я вам скажу. Я пошлю одну из своих фрейлин, может быть двух, так как уже поздно; мне не хотелось бы, чтобы они вас видели или, говоря более откровенно, чтобы вы видели их. Эти предосторожности так понятны, особенно для вас, господин де Маникан: ведь вы все схватываете с полуслова.
— Да, принцесса. Я могу поступить даже лучше, я сам пойду перед вашими фрейлинами; таким образом, им не придется искать дорогу, и в то же время я окажу им помощь, если, паче чаяния, в ней будет надобность.
— И кроме того, при этом условии они войдут в дом, где находится господин де Гиш, без всяких затруднений. Не правда ли?
— Конечно, принцесса; я войду первым и устраню все затруднения, если бы таковые случайно возникли.
— Хорошо, ступайте, господин де Маникан, и ждите на нижней площадке лестницы.
— Иду, принцесса.
— Погодите.
Маникан остановился.
— Когда вы услышите шаги двух спускающихся женщин, отправляйтесь, не оглядываясь.
— А вдруг случайно с лестницы сойдут две другие дамы и я буду введен в заблуждение?
— Вам тихонько хлопнут три раза в ладоши.
— Слушаю, принцесса.
— Ступайте же, ступайте!
Маникан в последний раз поклонился принцессе и радостно вышел. Он знал, что визит принцессы будет лучшим бальзамом для ран де Гиша.
Не прошло и четверти часа, как до него донесся скрип осторожно открываемой двери. Затем он услышал легкие шаги, и кто-то три раза хлопнул в ладоши, то есть подал условленный знак. Маникан тотчас же, согласно данному слову, не оглядываясь, отправился по улицам Фонтенбло к дому врача.
XXVIII. Господин Маликорн, архивариус Французского королевства
Две женщины, закутанные в плащи и в черных бархатных полумасках, робко последовали за Маниканом.
Во втором этаже, за красными занавесками, мягко струился свет лампы. В другом конце комнаты, на кровати с витыми колонками, за пологом того же цвета, что и занавески, лежал де Гиш. Голова его покоилась на двух подушках, глаза были безжизненно тусклы, длинные черные вьющиеся волосы рассыпались по подушке и спутанными прядями прикрывали бледное лицо молодого человека.
Чувствовалось, что хозяйкой в этой комнате является лихорадка. Де Гиш бредил. Ум его был прикован к видениям, которые бог посылает людям, отправляющимся в вечность. Несколько пятен еще не засохшей крови темнело на полу.
Маникан быстро взбежал по лестнице; он остановился на пороге, тихонько толкнул дверь, просунул голову в комнату и, видя, что все спокойно, на цыпочках подошел к большому кожаному креслу эпохи Генриха IV; убедившись, что сиделка, как и следовало ожидать, заснула, Маникан разбудил ее и попросил на минуту выйти.
Затем он постоял подле кровати, спрашивая себя, не нужно ли разбудить де Гиша, чтобы сообщить ему приятное известие. Но так как из-за портьеры до него уже доносились шорох шелковых платьев и прерывистое дыхание его спутниц, так как он уже видел, что эту портьеру нетерпеливо отодвигают, то он тоже вслед за сиделкой перешел в соседнюю комнату. В то самое мгновение, когда он скрывался за дверью, портьера поднялась, и в комнату вошли две женщины.
Вошедшая первой сделала своей спутнице повелительный жест, и та опустилась на табурет у дверей. Первая решительно направилась к постели, раздвинула полог и забросила его широкие складки за изголовье. Она увидела бледное лицо графа; увидела его правую руку, забинтованную ослепительно белым полотном и отчетливо обрисовывавшуюся на одеяле с темными разводами, которое покрывало это ложе страдания. Она вздрогнула, увидя, как красное пятно на повязке постепенно увеличивается.
Рубашка молодого человека была расстегнута, как будто для того, чтобы ночная свежесть облегчала ему дыхание.
Глубокий вздох вырвался из груди молодой женщины. Она прислонилась к колонке кровати и сквозь отверстия маски долго смотрела на печальную картину.
Хрип и стоны прорывались сквозь стиснутые зубы графа.
Дама в маске схватила левую руку раненого, горячую, как раскаленный уголь. По сравнению с ней рука гостьи была холодна как лед, так что от ее прикосновения де Гиш мгновенно открыл глаза и, напрягая зрение, сделал усилие вернуться к жизни.
Первое, что он заметил, был призрак, стоявший у колонки его кровати. При виде его глаза больного расширились, но в них не блеснуло ни искры сознания.
Тогда стоявшая сделала знак своей спутнице, сидевшей на табурете у двери; та, без сомнения, xopoшo заучила урок, потому что ясным, звонким голосом, отчеканивая слова, без запинки произнесла:
— Граф, ее высочеству принцессе угодно узнать, как вы себя чувствуете, и выразить моими устами свое глубокое соболезнование.
При слове принцесса де Гиш напряг зрение: он не видел женщины, которая произнесла эти слова. Поэтому он невольно повернулся в ту сторону, откуда раздавался голос. Но так как ледяная рука не оставляла его руки, то он снова принялся глядеть на неподвижный призрак.
— Это вы говорите мне, сударыня, — спросил он слабым голосом, — или же, кроме вас, в этой комнате есть еще кто-нибудь?
— Да, — еле слышно отвечал призрак, опустив голову.
— Так передайте принцессе, — с усилием произнес раненый, — что если она вспомнила обо мне, то я умру без сожаления.
При слове умру , произнесенном графом, дама в маске не могла сдержать слез. Если бы сознание де Гиша было яснее, он бы увидел, как эти блестящие жемчужины падают к нему на постель. Позабыв, что лицо ее закрыто, дама поднесла руку к глазам, желая вытереть их, но, встретив холодный, бесчувственный бархат, с гневом сорвала маску и швырнула ее на пол.
При виде неожиданно появившегося точно из облака лица де Гиш вскрикнул и поднял руку. Но от слабости он не мог вымолвить ни слова, и силы мгновенно покинули его.
Его правая рука, которая, не рассчитав своих сил, инстинктивно потянулась к видению, тотчас же снова упала на кровать, и кровавое пятно на белом полотне расширилось еще более. В то же время глаза молодого человека затуманились и закрылись, точно он уже вступал в борьбу с безжалостным ангелом смерти. После нескольких конвульсивных движений голова его замерла на подушке. Лицо стало мертвенно-бледным.
Дама испугалась, но страх не отбросил ее от кровати, а, напротив, привлек к ней. Она наклонилась над раненым, обдавая своим дыханием холодное лицо, которого она почти касалась, потом быстро поцеловала левую руку де Гиша; точно под действием электрического тока, раненый опять очнулся, открыл ничего не видящие глаза и снова погрузился в забытье.
— Уйдем, — проговорила дама, обращаясь к своей спутнице. — Нам нельзя оставаться здесь дольше; я свершу какое-нибудь безрассудство.
— Ваше высочество забыли маску, — сказала бдительная спутница.
— Подберите ее, — отвечала дама, выбежавшая на лестницу в страшном смятении.
Так как дверь на улицу оставалась приоткрытой, то две птички легко выпорхнули из нее и поспешно вернулись во дворец. Одна из дам поднялась в покои принцессы и скрылась там. Другая вошла в помещение фрейлин, то есть на антресоли.
Придя в свою комнату, она села за стол и, даже не успев отдышаться, написала следующие строки:
«Сегодня вечером принцесса навестила г-на де Гиша.
С этой стороны все идет чудесно.
Действуйте и вы; главное же, сожгите эту бумажку».
После этого она сложила письмо и осторожно прокралась по коридору в помещение, отведенное для свиты принца. Там она остановилась перед одной дверью, два раза стукнула в нее, просунула в щелку записку и убежала. Затем, вернувшись к себе, уничтожила все следы своей прогулки и всякие доказательства того, что она писала.
Среди этих хлопот она заметила на столе маску принцессы, которую взяла с собой по приказанию своей госпожи, но не отдала ей.
«Нужно не забыть сделать завтра то, что я забыла сделать сегодня», — подумала она.
Она взяла маску и почувствовала, что бархат ее влажен. Посмотрев на палец, она увидела, что он не только стал мокрым, но и был измазан кровью. Маска упала на одно из кровавых пятен, которые, как мы сказали, виднелись на полу комнаты де Гиша, и кровь обагрила ее белую батистовую подкладку.
— Вот как! — воскликнула Монтале, которую читатели, наверное, уже узнали по манере поведения. — Нет, теперь я не отдам ей этой маски. Теперь она слишком драгоценна!
И Монтале подбежала к шкатулке из кленового дерева, где у нее хранились туалетные принадлежности и духи.
«Нет, не сюда, — сказала она себе, — такие вещи нельзя предоставлять случайностям».
Затем, постояв некоторое время в раздумье, она улыбнулась и торжественно произнесла:
— Прекрасная маска, окрашенная кровью храброго рыцаря, ты отправишься в склад редкостей, где хранятся письма Лавальер, письма Рауля — словом, вся моя любовная коллекция, которая послужит когда-нибудь источником для истории Франции, для истории французских королей! Ты пойдешь к господину Маликорну — со смехом продолжала шалунья, начиная раздеваться, — да, к почтенному господину Маликорну, — с этими словами она задула свечу, — который считает, будто он только смотритель покоев принца, но на самом деле произведен мной в архивариусы и историографы дома Бурбонов и лучших родов королевства. Пусть он теперь жалуется, этот медведь Маликорн!
Тут она задернула полог и уснула.
XXIX. Путешествие
На следующий день, когда часы били одиннадцать, король в сопровождении обеих королев и принцессы спустился по парадной лестнице к карете, запряженной шестеркой лошадей, нетерпеливо бивших копытами землю. Весь двор в дорожных костюмах ожидал короля. Блестящее зрелище представляло это множество оседланных лошадей, экипажей, толпы нарядных мужчин и женщин со своею челядью — лакеями и пажами.
Король сел в карету с двумя королевами. Принцесса поместилась с принцем. Фрейлины последовали примеру особ королевской фамилии и сели по две в приготовленные для них экипажи. Карета короля двинулась во главе кортежа, за ней карета принцессы, дальше остальные, согласно требованиям этикета.
Было жарко; легкий ветерок, который утром приносил свежесть, вскоре накалился от лучей солнца, спрятавшегося за облаками, и только обжигал своим дуновением. Горячий ветер поднимал тучи пыли, слепившей глаза путешественников.
Принцесса первая стала жаловаться на духоту. Принц вторил ей, откинувшись на спинку кареты с таким видом, точно собирался лишиться чувств, и все время с громкими вздохами освежал себя солями и благовониями. Тогда принцесса весьма учтиво обратилась к нему:
— Право, принц, я думала, что в эту жару вы из любезности предоставите всю карету мне одной, а сами поедете верхом.
— Верхом! — испуганно воскликнул принц, показывая этим возгласом, насколько странным кажется ему предложение принцессы. — Верхом! Что с вами, принцесса, у меня вся кожа сойдет от этого раскаленного ветра.
Принцесса рассмеялась.
— Возьмите мой зонтик, — предложила она.
— А кто будет его держать? — самым хладнокровным тоном отвечал принц. — К тому же у меня нет лошади.
— Как нет лошади? — удивилась принцесса, которая, не добившись своего, хотела по крайней мере подразнить супруга. — Нет лошади? Вы ошибаетесь, сударь, вон ваш гнедой любимец.
— Мой гнедой конь? — спросил принц, пробуя наклониться к дверце; однако это движение причинило ему столько беспокойства, что он снова откинулся на спинку и замер в неподвижности.
— Да, — сказала принцесса, — ваш конь, которого ведет на поводу господин де Маликорн.
— Бедный конь! — отозвался принц. — Как ему, должно быть, жарко.
И с этими словами он закрыл глаза, точно умирающий, готовый испустить последний вздох.
Принцесса лениво вытянулась в другом углу кареты и тоже закрыла глаза, но не для того, чтобы спать, а чтобы отдаться на досуге своим мыслям.
Между тем король, поместившийся на переднем сиденье кареты, так как задние места были уступлены королевам, испытывал досаду, свойственную влюбленным, которые никак не могут утолить жажду постоянно созерцать предмет своей любви и расстаются с ним неудовлетворенные, чувствуя еще более жгучее желание.
Возглавляя, как мы сказали, процессию, король не мог со своего места видеть кареты придворных дам и фрейлин, которые ехали позади. Вдобавок ему нужно было отвечать на постоянные обращения молодой королевы, которая была очень счастлива в присутствии дорогого мужа и, забывая о придворном этикете, изливала на него всю свою любовь и окружала всевозможными заботами, опасаясь, как бы его не отняли у нее или как бы у него не возникла мысль покинуть ее.
Анна Австрийская, которую мучили приступы глухой боли в груди, старалась казаться веселой. Она угадывала нетерпение короля, но умышленно продлевала его пытку, неожиданно начиная разговор как раз в те минуты, когда король отдавался грезам о своей тайной любви.
Наконец заботливость молодой королевы и уловки Анны Австрийской стали невыносимы для короля, не умевшего сдерживать движений своего сердца.
Он пожаловался сначала на жару; затем пошли другие жалобы. Однако Мария-Терезия не догадалась о намерениях мужа. Поняв слова короля буквально, она стала обмахивать Людовика веером из страусовых перьев.
Когда нельзя было больше негодовать на жару, король сказал, что у него затекли ноги. Так как в эту самую минуту карету остановили, чтобы переменить лошадей, то королева предложила:
— Не хотите ли пройтись? У меня тоже затекли ноги. Мы пойдем немного пешком, потом карета догонит нас, и мы снова усядемся.
Король нахмурил брови; жестокому испытанию подвергает неверного супруга ревнивая женщина, если она достаточно владеет собой, чтобы не дать ему повода рассердиться.
Тем не менее король не мог отказаться. Он вышел из кареты, подал королеве руку и сделал с нею несколько шагов, пока меняли лошадей. Он с завистью посматривал на придворных, пользовавшихся счастьем ехать верхом.
Королева вскоре заметила, что прогулка пешком доставляла королю так же мало удовольствия, как и путешествие в карете. Поэтому она попросила его снова сесть в экипаж. Король довел королеву до подножки, но не поднялся вслед за ней. Отойдя на три шага, он стал искать в веренице экипажей тот, что так живо интересовал его.
В дверце шестой кареты виднелось бледное лицо Лавальер. Замечтавшись, король не заметил, что все уже готово и ждут только его. Вдруг в нескольких шагах от него раздался почтительный голос. Это был г-н Маликорн, державший под уздцы двух лошадей.
— Ваше величество спрашивали лошадь? — обратился он к королю.
— Лошадь? Вы привели мою лошадь? — спросил король, не узнавая этого придворного, к лицу которого он еще не привык.
— Государь, — отвечал Маликорн, — вот конь к услугам вашего величества.
И Маликорн указал на гнедого коня принца, которого заметила из кареты принцесса. Это была великолепная, прекрасно оседланная лошадь.
— Но ведь это не моя лошадь, — заметил король.
— Государь, это лошадь из конюшни его высочества. Но его высочество не ездит верхом, когда так жарко.
Король ничего не ответил, он быстро подошел к коню. Маликорн тотчас же подал стремя; через секунду его величество был уже в седле. Повеселев от этой удачи, король с улыбкой подъехал к карете ожидавших его королев и, не замечая испуганного лица Марии-Терезии, воскликнул:
— Какое счастье! Я нашел лошадь. В карете я задыхался. До свидания, государыни!
И, грациозно нагнувшись к крутой шее своего коня, моментально исчез. Анна Австрийская высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет. Поравнявшись с шестой каретой, он осадил коня и снял шляпу. Его поклон обращен был к Лавальер, которая при виде короля вскрикнула от изумления и покраснела от удовольствия. Монтале, сидевшая в другом углу кареты, поклонилась королю. Потом, как женщина умная, притворилась, что вся поглощена пейзажем, открывавшимся из левого окна.
Разговор короля и Лавальер, как все разговоры влюбленных, начался с красноречивых взглядов и лишенных всякого смысла фраз. Король объяснил, что в карете он изнемогал от жары и поездка верхом показалась ему необыкновенно приятной.
— Нашелся благодетель, — сказал король, — который угадал мои желания. Мне очень хотелось бы знать, кто этот дворянин, сумевший так искусно услужить королю и избавить его от жестокой скуки.
В эту минуту Монтале как бы очнулась от своих мечтаний и устремила взор на короля.
Поскольку король смотрел то на Лавальер, то на нее, она могла подумать, что вопрос обращен к ней, и, следовательно, имела право ответить.
И она ответила:
— Государь, лошадь, на которой едет ваше величество, принадлежит принцу, и ее вел дворянин, состоящий на службе его высочества.
— Не знаете ли вы, мадемуазель, как его зовут?
— Господин Маликорн, государь. Да вот он сам едет слева от кареты.
И она показала на Маликорна, который действительно с блаженным лицом галопировал у левой дверцы кареты, хорошо зная, что в эту минуту разговор идет о нем, но не подавая виду, точно глухонемой.
— Он самый, — кивнул король. — Я запомнил его лицо и не забуду его имени.
Король нежно посмотрел на Лавальер.
Ора сделала свое дело: она вовремя бросила имя Маликорна, и оно упало на хорошую почву; ему оставалось только пустить корни и принести плоды. Поэтому Монтале снова откинулась в свой угол и знаками приветствовала Маликорна, только что имевшего счастье понравиться королю. Она шепнула ему:
— Все идет хорошо.
Слова эти сопровождались мимикой, которая должна была изображать поцелуй.
— Увы, мадемуазель, — вздохнул король, — вот и конец сельской свободе; ваши обязанности на службе у принцессы станут более сложными, и мы больше не будем видеться.
— Ваше величество так любите принцессу, — заметила Луиза, — что будете часто навещать ее; а проходя через комнату, ваше величество…
— Ах, — нежно сказал король, понизив голос, — встречаться не значит только видеться, а для вас этого, кажется, достаточно.
Луиза ничего не ответила; у нее готов был вырваться вздох, но она подавила его.
— У вас большое самообладание, — произнес король.
Лавальер грустно улыбнулась.
— Употребите эту силу на любовь, — продолжал он, — и я буду благодарить бога за то, что он дал ее вам.
Лавальер промолчала и только посмотрела на короля. Людовик, точно обожженный этим взглядом, провел рукой по лицу и, пришпорив лошадь, ускакал вперед.
Откинувшись на спинку кареты и полузакрыв глаза, Лавальер любовалась красивым всадником с развевающимися от ветра перьями на шляпе. Бедняжка любила и упивалась своей любовью. Через несколько мгновений король вернулся.
— Своим молчанием вы терзаете меня. Вы, наверное, изменчивы, и вам ничего не стоит порвать добрые отношения… словом, я страшусь рождающейся во мне любви.
— Государь, вы ошибаетесь, — отвечала Лавальер, — если я полюблю, то на всю жизнь.
— Если полюбите! — надменно воскликнул король. — Значит, теперь вы не любите.
Она закрыла лицо руками.
— Вот видите, — сказал король, — я был прав, вы изменчивы, капризны, может быть, кокетка. Ах боже мой, боже мой!
— О нет, успокойтесь, государь; нет, нет, нет!..
— И вы можете обещать, что никогда не изменитесь по отношению ко мне?
— Никогда, государь!
— И никогда не будете жестокой?
— Нет, нет!
— Хорошо; вы знаете, я люблю обещания, люблю охранять клятвой все, что трогает мое сердце. Обещайте мне или лучше поклянитесь, что если когда-нибудь в предстоящей жизни, полной жертв, тайн, горестей, препятствий и недоразумений, мы провинимся чем-нибудь друг перед другом, будем не правы, — поклянитесь мне, Луиза…
Лавальер вся затрепетала; в первый раз слышала она свое имя из уст короля.
Людовик же, сняв перчатку, протянул руку в карету.
— Поклянитесь, — продолжал он, — что, поссорившись, мы непременно будем искать к вечеру примирения, приложим старания, чтобы свидание или письмо, если мы будем далеко друг от друга, принесло нам утешение и успокоение.
Лавальер схватила своими похолодевшими пальцами горевшую руку влюбленного короля и нежно пожала ее; это рукопожатие было прервано движением лошади Людовика, испугавшейся вращавшегося колеса.
Лавальер поклялась.
— Теперь, государь, — попросила она, — вернитесь к королеве; я чувствую, что там собирается гроза и мне она несет несчастья и беды.
Людовик повиновался, поклонился Монтале и пустил лошадь вдогонку за каретой королев. В одной из карет он увидел заснувшего принца.
Но принцесса не спала, и когда король проезжал мимо, она обратилась к нему:
— Какая чудесная лошадь, государь!.. Да ведь это гнедой конь принца!
А молодая королева спросила только:
— Ну что, вам лучше, дорогой государь?
XXX. Триумфеминат15 Триумфеминат (от лат. femina — женщина) — то есть союз трех женщин, по аналогии с прославившимися древнеримскими триумвиратами, первым из которых был союз, заключенный между Помпеем, Цезарем и Крассом.
Приехав в Париж, король отправился в совет и часть дня работал. Молодая королева осталась с Анной Австрийской и по уходе короля разрыдалась.
— Ах, матушка, — сказала она, — король больше меня не любит. Что будет со мной, боже праведный?
— Муж всегда любит такую жену, как вы, — отвечала Анна Австрийская.
— Может наступить время, матушка, когда он полюбит другую.
— Что вы называете любить?
— Ах, всегда думать о ком-нибудь, всегда искать встречи с этим лицом!
— А разве вы заметили у короля что-нибудь подобное? — спросила Анна Австрийская.
— Нет, сударыня, — неуверенно молвила молодая королева.
— Вот видите, Мария!
— А между тем, дорогая матушка, согласитесь, что король пренебрегает мною.
— Король, дочь моя, принадлежит всему королевству.
— Вот почему он не принадлежит мне; вот почему и меня, как многих королев, король бросит, забудет, и любовь, слава, почести станут уделом других. Ах, матушка, король так красив! Многие женщины будут признаваться ему в любви, многие будут любить его!
— Женщины редко любят в короле мужчину. Но если бы это случилось, в чем я сомневаюсь, пожелайте, Мария, чтобы эти женщины действительно любили вашего мужа. Во-первых, самоотверженная любовь женщины быстро надоедает мужчине, во-вторых, полюбив, женщина теряет всякую власть над мужчиной, от которого она не добивается ни могущества, ни богатства, а только любви. Итак, пожелайте, чтобы король любил как можно меньше, а его избранница как можно больше.
— Ах, матушка, беззаветная любовь заключает в себе огромную силу.
— А вы говорите, что вы покинуты!
— Это правда, я говорю глупости… Но одного, однако, я не могла бы вынести.
— Чего именно?
— Счастливого выбора, новой семьи, которую он нашел бы у другой женщин. О, если я когда-нибудь узнаю, что у короля есть дети… я умру!
— Мария! Мария! — улыбнулась в ответ королева-мать и взяла за руку молодую женщину. — Запомните то, что я вам скажу, и пусть мои слова всегда будут служить вам утешением: у короля не может быть наследника без вас, у вас же он может быть без короля.
И с этими словами Анна Австрийская громко расхохоталась, покинула свою невестку и пошла навстречу принцессе, о приходе которой в эту минуту доложил паж.
Лицо у принцессы было озабоченное, как у человека, что-то затеявшего.
— Я пришла узнать, — начала она, — не утомило ли ваши величества наше путешествие?
— Нисколько, — отвечала королева-мать.
— Немного, — проговорила Мария-Терезия.
— А я очень обеспокоена.
— Чем? — взглянула на нее Анна Австрийская.
— Король, наверное, устал от верховой езды.
— Нет, ему было полезно прокатиться верхом.
— Я сама посоветовала ему, — сказала, побледнев, Мария-Терезия.
Принцесса ничего не отвечала, а только улыбнулась одной из свойственных ей улыбок, при которой все лицо ее оставалось неподвижным и только губы кривились. Она тотчас же переменила тему разговора:
— Мы нашли Париж совершенно таким же, как покинули его: по-прежнему интриги, козни, кокетство.
— Интриги! Какие интриги? — спросила королева-мать.
— Много говорят о господине Фуке и госпоже Плесси-Бельер.
— Которая записалась, значит, под десятитысячным номером? — усмехнулась королева-мать. — Ну а козни?
— По-видимому, у нас какие-то неприятности с Голландией.
— Принц рассказал мне историю с медалями.
— Ах, медали, отчеканенные в Голландии, — воскликнула молодая королева, — на которых изображено облако, проходящее по солнцу-королю! Напрасно вы называете это кознями. Это просто неприличная выходка.
— Такая жалкая, что король не обратит на нее внимания, — заметила королева-мать. — А что вы скажете о кокетстве? Вы намекали на госпожу д’Олон?
— Нет, нет! Нужно искать поближе.
— Casa de usted16В ваш огород камешки (исп.). , — прошептала королева-мать на ухо невестке, не шевеля губами.
Принцесса не услышала этих слов и продолжала:
— Вы знаете ужасную новость?
— Как же! О ранении господина де Гиша?
— И вы, как и все, объясняете это несчастным случаем на охоте?
— Да, конечно, — ответили обе королевы, проявив на этот раз интерес.
Принцесса подошла ближе.
— Дуэль! — произнесла она.
— А! — воскликнула Анна Австрийская, для ушей которой слово дуэль звучало неприятно: во время ее царствования дуэли были запрещены во Франции.
— Прискорбная дуэль, которая чуть было не стоила принцу двух его лучших друзей, а королю — двух преданных слуг.
— Из-за чего же произошла эта дуэль? — спросила молодая королева, движимая каким-то тайным инстинктом.
— Из-за кокетства, — торжествующе сказала принцесса. — Противники рассуждали о добродетели одной дамы: один находил, что рядом с нею Паллада — ничто; другой уверял, будто эта дама подражает Венере, прельстившей Марса, и эти господа подрались, как Ахилл с Гектором.
— Венера, прельстившая Марса? — прошептала молодая королева, не решаясь углублять аллегорию.
— Кто же эта дама? — начала без обиняков Анна Австрийская. — Вы как будто сказали, что она фрейлина?
— Неужели сказала? — удивилась принцесса.
— Да. Мне показалось даже, что вы назвали ее имя.
— А знаете ли вы, что такая женщина приносит большое несчастье в королевский дом?
— Это мадемуазель де Лавальер? — спросила королева-мать.
— Представьте, да; эта дурнушка.
— Я считала ее невестой одного дворянина, который не является ни господином де Гишем, ни господином де Вардом.
— Очень возможно, ваше величество.
Молодая королева взяла вышивание и с притворным спокойствием стала распутывать нитки; однако дрожащие пальцы выдавали ее волнение.
— Что такое вы сказали о Венере и Марсе? — продолжала расспрашивать королева-мать. — Разве есть какой-нибудь Марс?
— Она хвастается, что есть.
— Вы говорите, хвастается?
— Это и было причиной дуэли.
— И господин де Гиш держал сторону Марса?
— Да, конечно, как преданный его слуга.
— Преданный слуга! — вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько ее мучила ревность. — Чей слуга?
— Защищать Марса, — говорила принцесса, — можно было, только принеся в жертву Венеру. Поэтому господин де Гиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен и что Венера просто хвастунья.
— А господин де Вард, — спокойно спросила Анна Австрийская, — настаивал, что Венера права?
«Дорого же вы, де Вард, поплатитесь за рану, нанесенную благороднейшему человеку!» — подумала принцесса.
Она с ожесточением напала на де Варда, мстя таким образом за раненого и возвращая одновременно собственный долг; принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем так много, что если бы слова ее слышал Маникан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга, — столько вреда принесли они несчастному врагу.
— Во всем этом, — сказала Анна Австрийская, — я вижу только одно зло — Лавальер.
Молодая королева снова принялась за работу с полнейшим хладнокровием. Принцесса слушала.
— Разве вы не согласны со мной? — обратилась к ней Анна Австрийская. — Разве вы не считаете ее причиной ссоры и поединка?
Принцесса отвечала неопределенным жестом, который можно было принять и за утвердительный и за отрицательный.
— В таком случае я не понимаю, что вы говорили об опасности кокетства, — заметила Анна Австрийская.
— Да ведь если бы эта особа не кокетничала, — поспешно ответила принцесса, — Марс не обратил бы на нее никакого внимания.
При новом упоминании о Марсе щеки молодой королевы на мгновение вспыхнули, однако она продолжала работать.
— Я не желаю, чтобы при моем дворе одних мужчин вооружали против других, — флегматично произнесла Анна Австрийская. — Эти нравы были, может быть, терпимы во времена, когда раздробленное дворянство объединялось только ухаживанием за женщинами. В те времена царили женщины, поддерживая путем частых поединков отвагу мужчин. Но теперь, слава богу, во Франции только один повелитель. Этому повелителю должны быть посвящены все силы и все помыслы. Я не потерплю, чтобы моего сына лишали преданных слуг.
И, повернувшись к молодой королеве, спросила:
— Что делать с этой Лавальер?
— Лавальер? — с изумлением подняла глаза Мария-Терезия. — Я не слыхала этого имени.
Этот ответ сопровождала ледяная улыбка, которая подходит только королевским устам.
Принцесса сама была дочерью короля и отличалась большой гордостью и большим умом; однако слова Марии-Терезии уничтожили ее. И ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя.
— Это одна из моих фрейлин, — поклонилась принцесса.
— В таком случае, — произнесла Мария-Терезия тем же тоном, — это касается вас, сестра… а не нас.
— Простите, — возразила Анна Австрийская, — это касается меня. Я отлично понимаю, — продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу, — почему ваше высочество сказали мне об этом.
— Все, что исходит от вас, — криво улыбнулась англичанка-принцесса, — исходит от самой мудрости.
— Ее можно будет отослать в провинцию, — мягко заметила Мария-Терезия, — и устроить ей пенсию.
— Из моей шкатулки! — живо прибавила принцесса.
— Нет, нет, принцесса, — перебила Анна Австрийская, — не нужно шума. Король не любит, чтобы о дамах распускали дурные слухи. Пусть все это кончится по-семейному. Принцесса, вы будете настолько любезны и пришлете сюда эту девушку… А вы, дочь моя, будьте добры оставить нас на несколько минут.
Просьбы вдовствующей королевы были равносильны приказаниям. Мария-Терезия удалилась в свои покои, а принцесса велела пажу позвать Лавальер.
XXXI. Первая ссора
Лавальер вошла в комнаты королевы-матери, не подозревая, что против нее составлен опасный заговор. Она думала, что ее приглашали на дежурство, а в таких случаях королева-мать всегда была добра с ней. Кроме того, Лавальер не находилась в непосредственном подчинении у Анны Австрийской и имела с ней только официальные отношения; по прирожденной любезности и высокому положению вдовствующая королева считала долгом придавать официальным отношениям как можно больше мягкости.
Итак, Лавальер подошла к королеве-матери со спокойной и кроткой улыбкой, составлявшей ее главную прелесть. Анна Австрийская поманила девушку к своему креслу. В эту минуту вернулась принцесса и с самым равнодушным видом села подле свекрови, взяв рукоделие Марии-Терезии.
Лавальер ждала, что ей тотчас же отдадут какое-нибудь приказание, но, увидев все эти приготовления, с любопытством стала вглядываться в лица королевы и принцессы.
Анна размышляла. Принцесса выказывала полное безразличие, но ее безучастный вид способен был встревожить и не таких робких людей, как Лавальер.
— Мадемуазель, — внезапно начала королева-мать, нисколько не стараясь смягчить свой испанский акцент, хотя всегда это делала, если говорила спокойно, — подойдите-ка поближе, поговорим о вас, раз вы у всех на устах.
— Я? — воскликнула Лавальер, бледнея.
— Не притворяйтесь, красавица! Вам известно о дуэли господина де Гиша с господином де Вардом?
— Боже мой, ваше величество, вчера до меня дошли слухи о ней, — отвечала Лавальер.
— А вы не предполагали, что будут такие слухи?
— Как могла я предполагать это, ваше величество?
— Дуэль никогда не бывает без причины, и вы, наверное, знали причину вражды двух противников.
— Я не знаю ее, ваше величество.
— Упорное отрицание — довольно старый способ защиты, и вы слишком умны, мадемуазель, для того, чтобы прибегать к банальностям. Придумайте что-нибудь другое.
— Боже мой, ваше величество пугаете меня своим ледяным тоном! Неужели я имела несчастье навлечь на себя немилость?
Принцесса рассмеялась. Лавальер с изумлением посмотрела на нее.
— Немилость? — переспросила Анна Австрийская. — Навлечь немилость? Вы не понимаете, что говорите, мадемуазель де Лавальер, я подвергаю немилости лишь тех людей, о которых я думаю. О вас же я вспомнила только потому, что о вас слишком много говорят, а я не люблю, когда фрейлины моего двора служат предметом разговоров.
— Ваше величество делаете мне честь, обращаясь ко мне, — возразила испуганная Лавальер, — но я не понимаю, почему могут заниматься мной.
— Так я сейчас расскажу. Господину де Гишу пришлось защищать вас.
— Меня?
— Да, вас. Он поступил по-рыцарски, а красивые искательницы приключений любят, чтобы рыцари ломали ради них копья. Но я ненавижу поединки и особенно ненавижу такого рода приключения… сделайте отсюда вывод.
Лавальер упала к ногам королевы, но та повернулась к ней спиной. Она протянула руку к принцессе, которая засмеялась ей в глаза. Гордость заставила Лавальер подняться.
— Ваше величество, — попросила она, — скажите мне, в чем я провинилась? Я вижу, что ваше величество осуждаете меня, не давая возможности оправдаться.
— Вот как! — вскричала Анна Австрийская. — Слышите, какие красивые фразы, принцесса! Какие высокие чувства! Ни дать ни взять — инфанта, нареченная великого Кира, кладезь нежности и героических чувств! Видно, моя красавица, что вы общаетесь с коронованными особами.
Лавальер почувствовала, что ее ранили в самое сердце, она не то что побледнела, но стала белой, как лилия, и силы покинули ее.
— Я хотела вам сказать, — презрительно говорила королева, — что, если вы по-прежнему будете питать подобные чувства, вы так унизите нас, женщин, что нам будет стыдно стоять рядом с вами. Опомнитесь, мадемуазель. Кстати, я слышала, что вы невеста. Это правда?
Лавальер прижала руку к сердцу, которому нанесена была новая рана.
— Отвечайте же, когда с вами говорят!
— Да, ваше величество.
— Кто же ваш жених?
— Виконт де Бражелон.
— Вы знаете, что это для вас большое счастье, мадемуазель, и что вы, девушка без состояния, без положения в обществе… без особых личных достоинств, должны благословлять небо, дарующее вам такое будущее.
Лавальер молчала.
— Где находится виконт де Бражелон? — спросила королева.
— В Англии, — отвечала принцесса, — куда, конечно, вскоре дойдут слухи об успехах мадемуазель.
— Боже мой! — прошептала в отчаянии Лавальер.
— Итак, мадемуазель, — сказала Анна Австрийская, — этого молодого человека вернут, и вы с ним куда-нибудь уедете. Если у вас другие намерения, — у девушек иногда бывают странные желания, — поверьте, я направлю вас на хороший путь: и не таких, как вы, я уже излечивала.
Лавальер больше ничего не слышала. Безжалостная королева продолжала:
— Я пошлю вас одну в такое место, где у вас будет возможность зрело подумать обо всем. Размышление охлаждает жар крови и рассеивает иллюзии молодости. Мне кажется, что вы поняли меня.
— Ваше величество!
— Ни слова больше!
— Ваше величество, я не виновата в том, что вам угодно было предположить. Взгляните на мое отчаяние. Я так люблю, так почитаю ваше величество.
— Лучше было бы, если бы вы не почитали меня, — усмехнулась королева. — Лучше было бы, если бы вы не были невинной. Уж не воображаете ли вы, что я посмотрела бы сквозь пальцы, если бы вы были виноваты?
— Ваше величество, вы меня убиваете!
— Пожалуйста, без комедий, не то я устрою вам такую развязку, что вы будете не рады. Ступайте к себе, и пусть урок послужит вам на пользу.
— Ваше высочество, — проговорила Лавальер, обращаясь к герцогине Орлеанской и хватая ее за руку, — вы так добры, попросите за меня!
— Я? — расхохоталась принцесса. — Я добра?.. Вы совсем не верите тому, что говорите, мадемуазель!
И она резко отдернула руку.
Вместо того чтобы испить до дна чашу унижения, Лавальер внезапно успокоилась и овладела собой; она сделала глубокий реверанс и ушла.
— Ну как, по-вашему, — спросила Анна Австрийская, — она будет продолжать?
— Я не доверяю кротким и терпеливым характерам, — отвечала принцесса. — Терпеливое сердце необыкновенно мужественно; кроткий дух уверен в себе.
— Ручаюсь вам, что она очень и очень подумает, прежде чем снова взглянуть на бога Марса.
— Если только не вооружится его щитом, — возразила принцесса.
Гордый взгляд королевы-матери был ответом на это не лишенное тонкости замечание. И обе дамы, почти уверенные в победе, отправились к Марии-Терезии, которая с притворным равнодушием ждала их.
Было около половины седьмого. Король только что кончил дела и поужинал. Не теряя времени, он взял де Сент-Эньяна под руку и приказал ему проводить себя в комнату Лавальер. Придворный выразил крайнее изумление.
— Что же тут странного? — сказал король. — Мне нужно освоить этот маршрут и сделать его привычным.
— Но, государь, здешнее помещение фрейлин — настоящий фонарь: все видят, кто туда входит, кто выходит. Мне кажется, нужен какой-нибудь предлог… Вот, например…
— Ну, какой?
— Не угодно ли будет вашему величеству подождать, пока принцесса вернется к себе?
— Никаких предлогов! Никаких ожиданий! Довольно играть в прятки, довольно тайн! Не вижу никакого бесчестия для короля Франции в том, что он будет разговаривать с умной девушкой. Пусть будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом!
— Простите меня, ваше величество, за избыток усердия…
— Говори.
— А королева?
— Да, это правда, это правда! Я хочу, чтобы королева всегда была окружена почтением. Ну хорошо, сегодня вечером я нанесу визит мадемуазель де Лавальер, а потом придумаю какие тебе будет угодно предлоги. Завтра мы займемся этим, сегодня же у меня нет времени.
Де Сент-Эньян ничего не ответил. Он пошел вперед, спустился с лестницы и пересек двор, чувствуя стыд, которого не могла подавить величайшая честь оказывать услугу королю. Дело в том, что де Сент-Эньян хотел сохранить свою репутацию в глазах принцессы и обеих королев. В то же время ему хотелось угодить мадемуазель де Лавальер, а сочетать то и другое было довольно сложно.
Нужно заметить, что окна комнат королев и принцессы выходили во двор. Увидя, как он провожает короля, эти три дамы порвали бы с ним всякие отношения, а авторитет этих высокопоставленных особ не мог быть уравновешен мимолетным влиянием фаворитки. Несчастный де Сент-Эньян, так мужественно оказывавший покровительство Лавальер в парке Фонтенбло, потерял всю свою уверенность, находясь в Париже на виду у всех. Он находил у этой девушки тысячу недостатков, и ему не терпелось сообщить о них королю.
Но вот пытка кончилась; двор был пройден. Ни одна занавеска не поднялась, ни одно окно не открылось. Король шел быстро: его торопили нетерпение и длинные ноги де Сент-Эньяна, показывавшего ему дорогу. У дверей де Сент-Эньян хотел скрыться; король удержал его. Это была любезность, без которой придворный отлично обошелся бы. Ему пришлось войти вместе с Людовиком к Лавальер.
При появлении короля молодая девушка вытерла глаза; король заметил это. Он стал ее расспрашивать с настойчивостью влюбленного.
— Пустяки, государь, — улыбнулась она.
— Но вы все же плакали?
— Нет, государь.
— Взгляните, де Сент-Эньян, разве я ошибаюсь?
Де Сент-Эньяну необходимо было ответить, но он был в большом замешательстве.
— Однако у вас красные глаза, — настаивал король.
— Это от пыли, государь.
— Нет, нет, у вас на лице нет того выражения довольства, которое так красит вас и делает такой привлекательной. Вы на меня не смотрите.
— Государь!
— Да что я говорю: вы избегаете моих взглядов!
Она действительно отворачивалась.
— Но, ради бога, что случилось? — спросил Людовик, охваченный лихорадочным волнением.
— Повторяю, государь, пустяки; и я готова доказать вашему величеству, что я совершенно спокойна.
— Вы говорите, что вы спокойны, а я вижу, что вы в замешательстве. Может быть, вас обидели, рассердили?
— Нет, нет, государь!
— Вы должны сказать мне об этом! — воскликнул король, сверкая глазами.
— Никто, государь, не обижал меня, никто.
— Так пусть же к вам вернется то мечтательно-веселое выражение лица, которым я любовался сегодня утром; сделайте мне одолжение!
— Извольте, государь, извольте!
Король топнул ногой.
— Какая необъяснимая перемена! — воскликнул он.
И Людовик взглянул на Сент-Эньяна, который тотчас заметил подавленный вид Лавальер. Но напрасно просил Людовик, напрасны были его попытки рассеять ее печаль, вывести ее из оцепенения. Эта скрытность показалась королю оскорбительной; он стал подозрительно осматриваться.
В комнате Лавальер висел миниатюрный портрет Атоса. Король заметил этот портрет, черты лица Атоса очень напоминали Бражелона, потому что изображение было сделано в молодые годы графа. И он не спускал с миниатюры грозного взора.
Лавальер была так угнетена и так далека от мысли об этом портрете, что не могла догадаться о причине озабоченности короля. А король невольно вспомнил, что Лавальер и Бражелон были близки с раннего детства. Он вспомнил о помолвке, которая была следствием этой близости. Он вспомнил, как Атос просил у него руки Лавальер для Рауля.
И Людовик вообразил, что по возвращении в Париж Лавальер получила из Лондона известия, затмившие его образ, образ короля. Тотчас же его ужалил овод, который называется ревностью. Снова он принялся с горечью допрашивать ее. Лавальер не могла отвечать: ей пришлось бы сказать все, обвинить королеву, обвинить принцессу. А это значило бы начать открытую борьбу с двумя высокопоставленными и могущественными женщинами.
Ей казалось сперва, что раз она не скрывала от короля ничего происходившего в ней, то король должен был прочитать правду в ее сердце, несмотря на ее молчание. Ей казалось, что если он действительно любит ее, то должен все понять, обо всем догадаться. Разве взаимное влечение не есть божественное пламя, освещающее все, что творится в сердце, и избавляющее действительно любящих от необходимости говорить?
Поэтому она замолчала, закрыв лицо руками и ограничиваясь только вздохами да слезами. Эти слезы и вздохи, которые сначала растрогали, а потом испугали Людовика XIV, теперь стали раздражать его.
Король не выносил сопротивления, хотя бы даже это сопротивление выражалось вздохами и слезами. Его слова стали колючими, требовательными, резкими. Это усилило страдания молодой девушки, но она мужественно переносила и новое испытание. Король перешел к прямому обвинению. Лавальер даже не пыталась защищаться; в ответ она только отрицательно качала головой, повторяя лишь два слова, всегда вырывающиеся из погруженных в глубокую печаль сердец:
— Боже мой, боже мой!
Однако этот крик боли не только не успокаивал, но еще увеличивал раздражение короля… Это был призыв к силе, стоявшей выше его, к существу, которое могло защитить от него Лавальер.
К тому же он находил поддержку в де Сент-Эньяне. Де Сент-Эньян, как мы видели, чувствовал, что собирается гроза; он не знал, какой степени может достигнуть любовь Людовика XIV. Зато он ясно предугадывал, что на бедную Лавальер скоро обрушатся удары королев и принцессы, и был не настолько рыцарем, чтобы не бояться водоворота, который мог увлечь и его.
Поэтому де Сент-Эньян на все обращения короля отвечал только словами, произносимыми вполголоса, или отрывистыми жестами, стараясь подлить масла в огонь и привести размолвку к открытой ссоре, после которой ему не придется больше компрометировать себя, сопровождая своего высокого покровителя к Лавальер. Король раздражался все больше и больше. Скрестив руки, он остановился перед Луизой.
— В последний раз спрашиваю вас, мадемуазель, угодно вам отвечать? Угодно вам объяснить причину этой перемены, своего непостоянства, капризов?
— Чего вы от меня хотите, боже мой? — прошептала Лавальер. — Вы видите, государь, что сейчас я душевно разбита. Вы видите, что у меня нет ни воли, ни мыслей, ни слов!
— Неужели так трудно сказать правду? Вам понадобилось бы для этого меньше слов, чем вы только что произнесли!
— Правду о чем?
— Обо всем.
Слова правды действительно поднимались к устам от сердца Лавальер. Ее руки сделали было движение, но уста остались безмолвными, и руки опустились. Бедняжка еще не чувствовала себя настолько несчастной, чтобы решиться на подобное признание.
— Я ничего не знаю, — пролепетала она.
— О, это больше, чем кокетство, больше, чем каприз, — воскликнул король, — это предательство!
На этот раз ничто его не остановило, и он, не оглядываясь, выбежал из комнаты с жестом, полным отчаяния. Де Сент-Эньян последовал за ним, очень довольный, что дело приняло такой оборот. Людовик XIV остановился только на лестнице и сказал, судорожно хватаясь за перила:
— Как недостойно, однако, я был одурачен.
— Каким образом, государь? — спросил фаворит.
— Де Гиш дрался за виконта де Бражелона. А этого Бражелона…
— Да, государь?
— Этого Бражелона она все еще любит. Право, де Сент-Эньян, я умру от стыда, если через три дня у меня останется хоть капля любви к ней.
И Людовик XIV быстро пошел дальше.
— Ах, я ведь говорил вашему величеству! — повторял де Сент-Эньян, следуя за королем и робко поглядывая на все окна.
К несчастью, дело не обошлось так удачно, как по дороге к Лавальер.
Поднялась занавеска, из-за которой выглянула принцесса и увидела, что король шел из флигеля фрейлин. Как только Людовик скрылся, она поспешно встала и стремительно помчалась в ту комнату, которую только что покинул король.
XXXII. Отчаяние
После ухода короля Лавальер поднялась, протянув вперед руки, точно она собиралась броситься за Людовиком и остановить его; затем, когда дверь за ним закрылась и шум шагов замер в отдалении, у нее хватило только силы упасть перед распятием.
Так лежала она, разбитая, подавленная горем, не сознавая ничего, кроме этого горя. Вдруг она услышала шум открывающейся двери. Она вздрогнула и оглянулась, думая, что это вернулся король. Она ошиблась — это вошла принцесса. Что ей было за дело до принцессы? Она снова упала, уронив голову на аналой.
Принцесса была взволнована, раздражена, в гневе.
— Мадемуазель, — сказала принцесса, останавливаясь перед Лавальер, — конечно, это очень похвально — стоять на коленях, молиться и притворяться очень набожной. Но как вы ни покорны царю небесному, вам следует все же исполнять волю владык земных.
Лавальер с трудом подняла голову.
— Мне помнится, — произнесла принцесса, — что вам только что было отдано приказание.
Неподвижный и ничего не видящий взгляд Лавальер доказывал, что она забыла обо всем на свете.
— Королева приказала вам, — говорила принцесса, — вести себя так, чтобы не было никаких поводов для слухов на ваш счет.
Взгляд Лавальер сделался вопросительным.
— А между тем от вас только что вышло лицо, присутствие которого здесь предосудительно.
Лавальер молчала.
— Нельзя, чтобы мой дом, — продолжала принцесса, — дом особы королевской крови, служил дурным примером и чтобы вы подавали этот дурной пример. Поэтому я объявляю вам, мадемуазель, с глазу на глаз, чтобы не унижать вас, — объявляю вам, что с этой минуты вы свободны и можете вернуться в Блуа к вашей матери.
Лавальер была теперь нечувствительна ни к каким оскорблениям и ни к каким страданиям. Она не шевельнулась; руки ее были по-прежнему сложены на коленях, как у Магдалины.
— Вы слышали? — спросила принцесса.
Только дрожь, пробежавшая по всему телу Лавальер, послужила ответом. И так как жертва не подавала никаких признаков жизни, принцесса ушла.
Только в этот момент Лавальер почувствовала в своем остановившемся сердце и застывшей в жилах крови биение, которое все ускорялось около кистей рук, шеи и висков. Постепенно усиливаясь, это биение скоро перешло в лихорадку, в безумный бред, в вихре которого проносились образы ее друзей и врагов. В ее ушах среди звона и шума мешались слова угрозы и слова любви; она перестала сознавать себя; точно крылья мощного урагана подняли ее, унесли от прежнего существования, и на горизонте она видела надгробный камень, который вырос перед ней, открывая страшную, черную обитель вечной ночи.
Но мало-помалу тяжелый бред прекратился, уступив место свойственной ее характеру покорности судьбе. В сердце ее проскользнул луч надежды, точно луч солнца в темницу бедного узника.
Она мысленно перенеслась на дорогу из Фонтенбло, увидела короля верхом подле дверцы кареты, услышала, как он говорил ей о своей любви, как он просил ее любви, заставив ее поклясться, и сам поклялся, что ни один день не кончится для них в ссоре и что свидание, письмо или какая-нибудь весточка всегда принесут успокоение дневным тревогам. Значит, король не мог не сдержать слова, которого сам же он и потребовал, если только он не был деспотом, не связанным никакими обещаниями, или же холодным эгоистом, которого способно остановить первое встретившееся на пути препятствие.
Неужели король, ее нежный покровитель, способный одним словом, одним только словом положить конец всем ее страданиям, тоже присоединился к числу ее преследователей?
О, его гнев не будет долго продолжаться! Теперь, оставшись один, он, должно быть, страдает, так же как и она. Только он не скован такими цепями, как она; он может действовать, двигаться, прийти, а она… ее удел только ждать. И она ждала с трепещущей душой; не может быть, чтобы король не пришел!
Была половина одиннадцатого.
Он придет, или напишет, или передаст ей доброе слово через г-на де Сент-Эньяна. Если он придет, как она бросится к нему, откинув всякую щепетильность, которая теперь казалась ей неуместной, как она скажет: «Я по-прежнему люблю вас; это они не хотят, чтобы я вас любила».
Размышляя, она мало-помалу пришла к убеждению, что Людовик не так виноват, как ей казалось. Что должен был он подумать, встретив ее упорное молчание? Удивительно даже, что нетерпеливый и раздражительный король так долго сохранял хладнокровие. Конечно, она не поступила бы так, как он; она бы все поняла, обо всем догадалась. Но она была только простая девушка, а не могущественный король.
О, если бы он пришел, если бы он пришел!.. Она немедленно простила бы ему все, что он заставил ее выстрадать! Насколько сильнее она полюбила бы его за пережитые страдания! И, повернув голову к двери, полуоткрыв рот, она ждала поцелуя, который так нежно сулили ей утром губы короля, когда он произносил слово «любовь».
Если король не придет, он все же напишет; это было второе утешение, менее сладостное, чем первое, но все же оно будет служить доказательством любви, хотя и более робкой. О, как радостно она будет читать это письмо, как поспешно ответит на него! А когда посланный уйдет — поцелует, перечитает, прижмет к сердцу благословенный листок, который принесет ей покой, отдохновение, счастье!
Если же король не покажется и не напишет, он, во всяком случае, пришлет де Сент-Эньяна или же де Сент-Эньян сам явится к ней. И ему она расскажет все. Королевское величие не сомкнет ее уста, и тогда в сердце короля не останется больше никаких сомнений.
И все в Лавальер — сердце и взгляд, тело и душа — превратилось в ожидание. Она сказала себе, что у нее остается еще час надежды; что до полуночи король может прийти, написать или прислать де Сент-Эньяна; что только в полночь ожидание станет напрасным, всякая надежда погибнет.
Как только раздавался какой-нибудь шум во дворце, бедняжка думала, что идут к ней; как только по двору проходил кто-нибудь, ей казалось, что это посланный короля.
Пробило одиннадцать; затем четверть двенадцатого; затем половина двенадцатого. Ей казалось, что минуты текут медленно, но в то же время они уходили так скоро.
Пробило три четверти.
Полночь, полночь! Пришел конец всем ожиданиям. С последним ударом часов потух последний свет; с последним светом погасла последняя надежда.
Итак, король ее обманул, нарушил клятву, которую дал ей сегодня утром; только двенадцать часов отделяли клятву от клятвопреступления. Не долго же ей пришлось тешиться иллюзией! Следовательно, король не только не любил ее, но и презирал ту, на которую обрушились все; он до такой степени презирал ее, что даже не защитил от бесчестия изгнания, равнявшегося позорному приговору; а между тем сам он, сам король, был настоящей причиной этого бесчестия.
Горькая улыбка, единственное выражение гнева, которое во время этой долгой борьбы обозначилось на ангельском лице жертвы, — горькая улыбка появилась на ее губах. Действительно, что оставалось у нее на земле, кроме короля? Ничего. Оставался только бог на небе.
И она обратилась к богу, взглянула на распятие и поцеловала его. Если бы кто-нибудь заглянул в эту минуту в ее комнату, то увидел бы, что бедная девушка, доведенная до отчаяния, принимала страшное решение.
Ее ноги не способны были больше поддерживать ее, она, тяжело дыша, опустилась на ступеньки аналоя, прижалась головой к распятию, вперила глаза в окно и стала ждать рассвета.
В два часа утра она все еще находилась в этом оцепенении, или, вернее, в экстазе. Она больше не принадлежала себе.
Увидев, что крыши дворца слегка полиловели и смутно обрисовались в темноте контуры распятия из слоновой кости, которое она обнимала, Лавальер с усилием встала и спустилась во двор, закрыв лицо плащом. Она подошла к калитке как раз в ту минуту, когда караульные мушкетеры открывали ворота, чтобы впустить первый пикет швейцарцев. Лавальер незаметно проскользнула вслед за часовыми на улицу, и начальник патруля не успел разобрать, что за женщина так рано покинула дворец.
XXXIII. Бегство
Лавальер вышла вместе с патрулем.
Патруль направился по улице Сент-Оноре направо, Лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение, ее намерения определились: она хотела поступить в монастырь кармелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных.
Лавальер совсем не знала Парижа. Она никогда не выходила пешком и не нашла бы дороги даже в более спокойном состоянии. Неудивительно, что она сразу повернула не в ту сторону, куда было нужно. Ей хотелось как можно скорее удалиться от дворца, все равно куда. Она слышала, что Шайо расположен на берегу Сены, и направилась к Сене. Она свернула на улицу Кок и так как не могла пройти через Лувр, то направилась к церкви Сен-Жермен-л’Озеруа, по пустырю, где впоследствии Перро построил знаменитую колоннаду.
Вскоре она вышла на набережную. Она была возбуждена и шла быстро, едва чувствуя слабость, которая, время от времени заставляя ее слегка прихрамывать, напоминала о вывихе, полученном ею в детстве.
В другие часы ее внешность вызвала бы подозрение даже у наименее проницательных людей, привлекла бы взгляды самых нелюбопытных прохожих. Но в половине третьего утра парижские улицы почти безлюдны; на них попадаются только трудолюбивые ремесленники, отправляющиеся на дневной заработок, или же бездельники, возвращающиеся домой после разгульной ночи. Для первых день начинается; для вторых он кончается.
Лавальер боялась всех встречных, так как она по неопытности не могла бы отличить честного человека от негодяя. Нищета была для нее пугалом, и все люди, которых она встречала, казались ей бедняками.
Несмотря на беспорядок в туалете, она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась накануне к вдовствующей королеве; кроме того, ее бледное лицо и красивые глаза, видневшиеся из-под плаща, который она приподняла, чтобы смотреть на дорогу, возбуждали различные чувства у прохожих: нездоровое любопытство у одних, жалость у других.
Так дошла Лавальер, страшно волнуясь, торопясь и спотыкаясь, до Гревской площади. Время от времени она останавливалась, прижимала руку к сердцу, прислонялась к стене, чтобы передохнуть, и затем еще быстрее устремлялась вперед.
На Гревской площади Лавальер столкнулась с тремя подвыпившими оборванцами, которые сходили с барки, причаленной к набережной. Барка была нагружена вином, и было видно, что эти люди отдали честь ее грузу.
Нестройными голосами они воспевали Бахуса и, спустившись на набережную, загородили дорогу молодой девушке. Лавальер остановилась. Они тоже остановились при виде женщины в придворном костюме. Потом взялись за руки и окружили Лавальер, напевая:
Бедняжка, ты скучаешь,
Пойдем посмеемся вместе.
Лавальер поняла, что эти люди помешают ей идти дальше. Она сделала несколько попыток к бегству; но все они были безуспешны. Ноги у нее подкосились, она почувствовала, что сейчас упадет, и отчаянно закричала. Но в то же мгновение окружавшее ее кольцо разорвалось под чьим-то мощным натиском. Один из оскорбителей кубарем полетел налево, другой покатился направо, к реке, третий пошатнулся.
Перед девушкой стоял офицер мушкетеров, с нахмуренными бровями, угрожающе сжатыми губами и поднятой рукой. При виде мундира, особенно же испытав силу человека, носившего его, пьяницы разбежались.
— Вот тебе раз! — воскликнул офицер. — Да ведь это мадемуазель де Лавальер!
Ошеломленная тем, что произошло, пораженная звуками своего имени, Лавальер подняла глаза и узнала д’Артаньяна.
— Да, сударь, это я.
И она схватила его за руку.
— Вы защитите меня, господин д’Артаньян? — произнесла она умоляющим голосом.
— Конечно; но куда же вы идете в такой ранний час?
— В Шайо.
— В Шайо, через Рапе? Ведь вы, мадемуазель, удаляетесь от него.
— В таком случае, сударь, будьте добры, укажите мне дорогу и проводите меня.
— С большим удовольствием!
— Но как вы очутились здесь? По какой милости неба вы подоспели мне на помощь? Право, мне кажется, что я вижу сон или схожу с ума.
— Я очутился здесь, мадемуазель, потому что у меня дом на Гревской площади. Вчера я пришел сюда за квартирной платой и здесь заночевал. Теперь мне хочется пораньше попасть во дворец, чтобы проверить караулы.
— Спасибо, — сказала Лавальер.
«Я объяснил ей, что я делал, — подумал д’Артаньян, — но что делала она и зачем идет в Шайо в такой час?»
Он подал ей руку. Лавальер оперлась на нее и быстро пошла. Однако чувствовалось, что она была очень слаба. Д’Артаньян предложил ей отдохнуть; она отказалась.
— Вы, должно быть, не знаете, где Шайо? — поинтересовался д’Артаньян.
— Не знаю.
— Туда очень далеко.
— Все равно!
— По крайней мере лье.
— Ничего, я дойду.
Д’Артаньян больше не спорил; по тону голоса он всегда отличал серьезно принятые решения.
Он скорее нес, чем провожал Лавальер.
Наконец показались холмы.
— К кому вы идете, мадемуазель? — спросил д’Артаньян.
— К кармелиткам, сударь.
— К кармелиткам?! — с изумлением повторил д’Артаньян.
— Да; и раз господь послал вас на моем пути, примите мою благодарность и прощайте.
— К кармелиткам! Вы прощаетесь! Значит, вы хотите постричься?.. — вскричал д’Артаньян.
— Да, сударь.
— Вы!!!
В этом вы , за которым мы поставили три восклицательных знака, чтобы придать ему как можно больше выразительности, заключалась целая поэма. Оно воскресило у Лавальер старые воспоминания о Блуа и ее недавнее прошлое в Фонтенбло; оно говорило ей: «Вы могли бы быть счастливы с Раулем и стать такой могущественной с Людовиком, и вы хотите постричься!»
— Да, сударь, — отвечала она, — я. Я хочу стать служительницей божьей; я отказываюсь от мира.
— Но не ошибаетесь ли вы относительно своего призвания? Не обманываетесь ли относительно воли божьей?
— Нет, потому что бог послал мне вас навстречу. Без вас я, наверное, не попала бы сюда. Значит, бог хотел, чтобы я дошла до цели.
— Сомневаюсь, — сказал в ответ д’Артаньян, — ваше рассуждение кажется мне чересчур хитроумным.
— Во всяком случае, — продолжала Лавальер, — вы теперь посвящены в мои планы. Мне остается только попросить вас о последней любезности, заранее принося вам благодарность.
— Говорите, мадемуазель.
— Король не знает о моем бегстве из дворца.
Д’Артаньян отступил в удивлении.
— Король, — продолжала Лавальер, — не знает, что я собираюсь постричься.
— Король не знает!.. — вскричал д’Артаньян. — Берегитесь, мадемуазель, вы не предусмотрели всех последствий вашего поступка. Без ведома короля ничего нельзя предпринимать, особенно придворным.
— Я больше не придворная, сударь.
Д’Артаньян смотрел на девушку со все возраставшим удивлением.
— Не беспокойтесь, сударь, — говорила она, — все предусмотрено, и к тому же теперь было бы поздно менять решение. Дело сделано.
— Что же вам угодно, мадемуазель?
— Сударь, я умоляю вас дать мне клятву — из жалости, из великодушия, из чувства чести.
— В чем?
— Поклянитесь мне, господин д’Артаньян, что вы не расскажете королю о встрече со мной и о том, что я в монастыре кармелиток.
Д’Артаньян покачал головой.
— Я не дам вам такой клятвы, — отказался он.
— Почему же?
— Потому что я знаю короля, знаю вас, знаю себя самого, знаю человеческую природу вообще; нет, такой клятвы я вам не дам.
— В таком случае, — произнесла Лавальер с силой, которой от нее нельзя было ожидать, — вместо того, чтобы благословлять вас до конца моих дней, скажу вам — будьте прокляты! Вы делаете меня несчастнейшей из всех женщин!
Мы уже говорили, что д’Артаньян умел различать голос сердца; восклицание Лавальер взволновало его. Он увидел, как исказилось ее лицо, как дрожь пробежала по ее хрупкому и нежному телу; он понял, что сопротивление убьет ее.
— Пусть будет по-вашему, — согласился он. — Будьте спокойны, мадемуазель, я ничего не скажу королю.
— Спасибо вам, спасибо! — воскликнула Лавальер. — Вы великодушнейший из всех людей.
И в порыве радости она схватила руку д’Артаньяна и крепко пожала ее.
Мушкетер был тронут.
— Вот тебе раз! — удивился он. — Она начинает тем, чем другие кончают. Как тут не растрогаться!
В припадке горя Лавальер присела было на камень, но собралась с силами, встала и направилась к монастырю, очертания которого обрисовывались на бледнеющем небе. Д’Артаньян издали следил за нею. Дверь в монастырскую приемную была приоткрыта. Лавальер скользнула туда, как тень, и, поблагодарив д’Артаньяна легким движением руки, скрылась.
Оставшись один, д’Артаньян задумался над только что происшедшим.
«Вот так положение! — размышлял он. — Хранить такую тайну — все равно что носить в кармане раскаленный уголь и надеяться, что он не прожжет платья. Выдать же тайну после того, как поклялся хранить ее, было бы бесчестно. Обыкновенно хорошие мысли приходят мне в голову мгновенно; однако на этот раз, если я не ошибаюсь, придется порядком потрудиться, прежде чем я найду решение вопроса… Куда направить путь?.. Ей-богу, в Париж; это правильная дорога… Только придется бежать бегом… А бежать лучше на четырех ногах, чем на двух. К несчастью, у меня теперь только две… Коня! „Корону за коня!“ — сказал бы я, как говорят в театре… Впрочем, это будет стоить мне подешевле… У заставы Конферанс стоит пикет мушкетеров, и там я найду целый десяток лошадей».
Приняв это решение, д’Артаньян тотчас же направился к пикету, выбрал лучшую лошадь и через десять минут был во дворце. На башне дворца пробило пять.
Д’Артаньян осведомился о короле. Король лег в обычный час, после аудиенции, данной им Кольберу, и, вероятно, еще спал.
— Да, — сказал мушкетер, — она не обманула меня. Король ничего не знает. Если бы ему была известна хоть половина того, что произошло, во дворце все были бы на ногах.
XXXIV. Как провел Людовик время от половины одиннадцатого до двенадцати
Вернувшись от Лавальер, король застал у себя Кольбера, который ожидал его распоряжений по поводу назначенного на следующий день церемониала.
Как мы уже сказали, речь шла о приеме голландского и испанского послов. Людовик XIV имел серьезные поводы для недовольства Голландией. Штаты уже несколько раз пускались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией и, как бы не придавая значения могущему последовать разрыву, снова отступали от союза с христианнейшим королем и затевали интриги с Испанией.
После того как Людовик XIV обрел всю полноту власти, то есть после смерти Мазарини, он сразу же столкнулся с этим положением вещей.
Молодому человеку нелегко было разрешить вопрос; но так как в эту эпоху нация была единодушна с королем, то тело с готовностью исполняло все решения, которые принимала голова. Достаточно было вспышки гнева, прилива молодой и живой крови к мозгу, и прежний политический курс менялся, создавалась новая комбинация. Роль дипломата той эпохи сводилась к подготовке переговоров, которые могли быть полезны государям.
В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрые решения. Еще взволнованный ссорой с Лавальер, он расхаживал по кабинету, с жадностью отыскивая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности.
Увидя короля, Кольбер сразу понял положение и угадал намерения монарха. Он стал лавировать. Когда государь спросил, что следует сказать завтра послу, помощник интенданта выразил удивление, каким образом г-н Фуке не осведомил ни о чем его величество.
— Господину Фуке, — сказал он, — известно все, что касается Голландии; вся корреспонденция попадает в его руки.
Король, привыкший к нападкам Кольбера на г-на Фуке, пропустил это замечание мимо ушей.
Увидя, какое впечатление произвели его слова, Кольбер пошел на попятную, заявив, что г-н Фуке не так уж виноват, как это кажется с первого взгляда, если принять во внимание его теперешние заботы.
Король насторожился.
— Какие заботы? — спросил он.
— Государь, люди всегда люди, и у господина Фуке наряду с большими достоинствами есть и недостатки.
— У кого их нет, господин Кольбер!
— У вашего величества они тоже есть, — смело заявил Кольбер, умевший приправить грубую лесть легким порицанием.
Король улыбнулся.
— Какой же недостаток у господина Фуке? — спросил он.
— Все тот же, государь; говорят, он влюблен.
— В кого?
— Не знаю наверное, государь; я мало вмешиваюсь в любовные дела.
— Но раз вы говорите, значит, вы что-нибудь знаете?
— Только по слухам.
— Что же вы слышали?
— Одно имя.
— Какое?
— Не помню.
— Все же скажите.
— Как будто имя одной из фрейлин принцессы.
Король вздрогнул.
— Вам известно больше, чем вы хотите сказать, господин Кольбер, — прошептал он.
— Уверяю вас, государь, нет!
— Но ведь фрейлины принцессы известны все наперечет, и если я назову вам их имена, вы, может быть, припомните.
— Нет, государь.
— Постарайтесь.
— Напрасный труд, государь. Когда речь заходит об имени скомпрометированной дамы, моя память делается железной шкатулкой, от которой потеряли ключ.
По лицу короля прошло облако; потом, желая показать, что он вполне владеет собой, Людовик тряхнул головой и сказал:
— Перейдем теперь к голландским делам.
— Прежде всего, государь, в котором часу вашему величеству угодно будет принять послов?
— Рано утром.
— В одиннадцать часов?
— Это слишком поздно… В девять.
— Это слишком рано.
— Для друзей это безразлично; с друзьями можно не церемониться; если же враги обидятся, тем лучше. Признаться, я охотно покончил бы со всеми этими болотными птицами, которые надоели мне своим криком.
— Государь, будет сделано, как угодно вашему величеству. Значит, в девять часов… Я отдам распоряжение. Аудиенция будет торжественная?
— Нет. Я хочу объясниться с ними, не ухудшая положения вещей, что всегда случается в присутствии слишком большого числа людей. В то же время я хочу добиться ясности, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.
— Ваше величество назначите лиц, которые будут присутствовать на этом приеме?
— Я составлю список… Теперь поговорим о послах. Чего им нужно?
— От союза с Испанией Голландия ничего не выигрывает; от союза с Францией она много теряет.
— Как так?
— Вступив в союз с Испанией, Штаты будут защищены владениями своего союзника; при всем своем желании они не могут захватить их. От Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас. Если они пожелают запустить зубы в испанский пирог, то вы, государь, зять испанского короля, можете через два дня явиться с кавалерией в Брюссель. Следовательно, им хочется поссорить вас с Испанией и заронить у вас подозрение, чтобы отбить охоту вмешиваться в ее дела.
— Разве не проще было бы, — отвечал король, — заключить со мной прочный союз, который давал бы мне кое-какие преимущества, а для них был выгоден во всех отношениях?
— Нет; ведь если бы Франция приобрела случайно общую границу с Голландией, то ваше величество оказались бы неудобным соседом. Молодой, пылкий, воинственный французский король может нанести чувствительные удары Голландии, особенно если он приблизится к ней.
— Все это я прекрасно понимаю, господин Кольбер, и ваши рассуждения превосходны. Но скажите мне, пожалуйста, каковы ваши выводы?
— Решения вашего величества всегда отличаются мудростью.
— Что мне будут говорить эти послы?
— Они скажут вашему величеству, что очень желают союза с вами, но это ложь; они будут говорить испанцам, что трем державам необходимо соединиться и помешать процветанию Англии; это тоже ложь, потому что Англия является в настоящее время естественным союзником вашего величества, у нее есть флот, тогда как у вас его нет. Именно Англия может служить противовесом могуществу Голландии в Индии. Наконец, Англия — монархическое государство, с которым у вашего величества родственные связи.
— Хорошо, но что бы вы ответили им?
— Я с большой сдержанностью ответил бы им, государь, что Голландия не очень расположена к французскому королю, что голландское общественное мнение недружелюбно к вашему величеству, что в Голландии были отчеканены медали с оскорбительными надписями.
— С оскорбительными для меня надписями? — вскричал возбужденный король.
— Нет, государь; «оскорбительные» — неподходящее слово, я обмолвился. Я хотел сказать — с надписями, чрезмерно лестными для голландцев.
— Ну, гордость голландцев меня мало трогает, — со вздохом сказал король.
— И ваше величество тысячу раз правы… Однако — это королю известно лучше, чем мне, — чтобы добиться уступок, в политике позволительны несправедливости. Пожаловавшись на голландцев, ваше величество приобретет в их глазах большой авторитет.
— Что же это за медали? — спросил Людовик. — Ведь если я заговорю о них, мне нужно знать все точно.
— Право, не знаю в точности, государь… Какой-то крайне заносчивый девиз… В этом весь смысл, слова несущественны.
— Отлично. Я сделаю ударение на слове «медаль», а они пусть понимают, как хотят.
— Поймут! Ваше величество может также ввернуть несколько слов о распространяемых памфлетах.
— Никогда! Памфлеты грязнят их авторов гораздо больше, чем тех, против кого они направлены. Благодарю вас, господин Кольбер, вы можете идти.
— Государь!
— Прощайте! Не забудьте о назначенном часе; я прошу вас присутствовать на приеме.
— Государь, я жду от вашего величества списка приглашенных.
— Да, да.
Король задумался, но совсем не о списке. Часы пробили половину двенадцатого. На лице короля можно было прочесть страшную борьбу между гордостью и любовью.
Разговор на политические темы успокоил Людовика; бледное, искаженное лицо Лавальер говорило его воображению совсем не о голландских медалях и памфлетах. Десять минут он размышлял, следует ли ему вернуться к Лавальер. Но Кольбер почтительно напомнил ему о списке, и король покраснел при мысли, что он до такой степени занят своей любовью, когда нужно думать о государственных делах.
Он стал диктовать:
— Королева-мать… королева… принцесса… госпожа де Мотвиль… мадемуазель де Шатильон… госпожа де Навайль. Мужчины: принц… господин де Граммон… господин де Маникан… господин де Сент-Эньян… и дежурные офицеры.
— А министры? — спросил Кольбер.
— Это само собой разумеется, и секретари.
— Государь, я пойду распорядиться, все будет исполнено.
Часы пробили двенадцать. В этот самый час бедняжка Лавальер умирала от горя.
Король отправился в спальню. Уже целый час королева ждала его. Со вздохом Людовик шел к ней; но, вздыхая, он благословлял себя за свое мужество, хвалил себя за то, что проявляет в любви такую же твердость, как в политике.
XXXV. Послы
По прибытии во дворец д’Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали; среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан мушкетеров, такая важная особа; да и независимо от тщеславия они гордились тем, что представляют какой-то интерес для такого храбреца, как д’Артаньян.
Каждое утро д’Артаньян осведомлялся обо всем, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. Из того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он, в случае надобности, развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно.
Поэтому два глаза д’Артаньяна служили ему не хуже, чем Аргусу его сто глаз.
Политические и альковные тайны, фразы, вырывавшиеся у придворных, когда они выходили от короля, — все знал д’Артаньян и все прятал в огромной и непроницаемой кладовой — в своей памяти, наряду с королевскими тайнами, дорого купленными и бережно хранимыми.
Поэтому ему стало известно о свидании короля с Кольбером, о назначенном на завтра приеме послов, о том, что там будет идти речь о медалях; восстановив весь разговор по нескольким дошедшим до него словам, д’Артаньян занял свой пост в королевских покоях, чтобы быть на месте, когда король проснется.
Король проснулся очень рано; это доказывало, что спал он плохо. В семь часов он тихонько приоткрыл дверь. Д’Артаньян стоял на посту. Король был бледен и казался утомленным; туалет его еще был не закончен.
— Велите позвать господина де Сент-Эньяна, — сказал он.
Де Сент-Эньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо, когда за ним пришли, он был уже одет.
Де Сент-Эньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо д’Артаньяна прошли король и де Сент-Эньян; король шел впереди. Д’Артаньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог, не трогаясь с места, наблюдать за королем. Он догадывался, куда пойдет король. Король пошел к фрейлинам.
Это нисколько не удивило д’Артаньяна. Хотя Лавальер ничего не сказала ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Де Сент-Эньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в семь часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят.
Д’Артаньян беззаботно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит и ему совершенно неинтересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем д’Артаньян, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения. Насвистывая старинный марш мушкетеров, приходивший ему на память только в важных случаях, он представлял, какая буря гневных криков поднимется по возвращении короля.
Действительно, войдя к Лавальер и найдя ее комнату пустой, а постель нетронутой, король испугался и позвал Монтале. Монтале тотчас прибежала, но удивилась не меньше короля. Она могла сообщить его величеству только то, что ей почудилось, будто ночью Лавальер плакала; но, зная, что к ней приходил его величество, не посмела спросить о причине.
— Как вы думаете, куда она могла уйти? — забеспокоился король.
— Государь, — отвечала Монтале, — Луиза очень сентиментальна. Я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она и теперь в саду.
Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошел разыскивать беглянку.
Когда д’Артаньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чем-то оживленно разговаривал со своим спутником. Король направился в сад. Де Сент-Эньян, запыхавшись, шел за ним.
Д’Артаньян не отходил от окна. Беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел все.
— Вот как! — прошептал он, когда король исчез. — Страсть его величества сильнее, чем я предполагал; он делает такие вещи, которых не стал бы делать из-за мадемуазель Манчини.
Через четверть часа король снова показался; он обыскал каждый уголок сада. Нечего и говорить, что его поиски были безуспешны. Де Сент-Эньян шел за его величеством, обмахиваясь шляпой, и испуганным голосом расспрашивал о Лавальер всех слуг, всех встречных. Он столкнулся с Маниканом. Маникан только что приехал из Фонтенбло; он не спешил: ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние, на которое другим потребовалось бы только шесть часов.
— Вы не видели мадемуазель де Лавальер? — поинтересовался де Сент-Эньян.
Всегда мечтательный и рассеянный Маникан, вообразив, что его спрашивают о де Гише, отвечал:
— Благодарю вас, графу немного лучше.
И пошел дальше; войдя в королевские комнаты, Маникан увидел д’Артаньяна и попросил объяснить, почему у короля такой растерянный вид. Д’Артаньян отвечал Маникану, что это обман зрения и король, напротив, безумно весел.
Пробило восемь. Обыкновенно в этот час король завтракал. Этикетом предписывалось, чтобы в восемь часов утра король всегда был голоден.
Людовик велел подать себе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де Сент-Эньян, с которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем де Сент-Эньяна на разведку.
Покончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо дожидаться возвращения де Сент-Эньяна, который поднял на ноги всех своих слуг; так прошло время до девяти часов.
Когда пробило девять, король проследовал в кабинет. Послы вошли при первом ударе часов, при последнем ударе появились королевы и принцесса. Голландия была представлена тремя дипломатами, Испания — двумя.
Король приветствовал их поклоном.
В эту минуту вошел де Сент-Эньян. Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было и какие бы государства они ни представляли.
Поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на де Сент-Эньяна, но тот отрицательно покачал головой. Король едва не потерял самообладания, но так как глаза королев, вельмож и послов были устремлены на него, он сделал над собой огромное усилие и предложил послам высказаться.
Тогда один из испанских представителей начал длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией.
Король перебил его, заявив:
— Сударь, я надеюсь, что все, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании.
Эти слова и особенно категорический тон, которым они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королев; их национальная испанская гордость была оскорблена.
Тогда взял слово голландский посол и стал жаловаться на предубеждение короля против правительства его страны.
Король перебил его:
— Сударь, мне странно слышать ваши слова, в то время как мне самому следовало бы жаловаться; между тем, вы видите, я молчу.
— На что же вы можете пожаловаться, ваше величество?
Король горько улыбнулся:
— Неужели, сударь, вы будете порицать меня за мое предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публично оскорбления и поощряющего оскорбителей?
— Государь!..
— Повторяю, — продолжал король, раздраженный своими личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами, — повторяю, что Голландия — пристанище для всех, кто меня ненавидит и особенно кто меня оскорбляет.
— Помилуйте, государь!..
— Вам нужны доказательства? Их легко можно представить. Где составляются дерзкие памфлеты, изображающие меня в виде жалкого и ничтожного монарха? Ваши печатные станки стонут от них. Если бы тут были мои секретари, я привел бы вам заглавия этих произведений и фамилии типографщиков.
— Государь, — отвечал посланник — памфлет не есть произведение нации. Справедливо ли, чтобы такой могущественный король, как ваше величество, возлагал на целый народ ответственность за преступление нескольких бесноватых, умирающих с голоду?
— С этим я, пожалуй, готов согласиться, сударь. Но когда амстердамский монетный двор чеканит позорящие меня медали, неужели и в этом повинны только несколько бесноватых?
— Медали? — пробормотал посланник.
— Медали, — повторил король, глядя на Кольбера.
— И ваше величество вполне уверены… — отважился заметить голландец.
Король не спускал глаз с Кольбера; но Кольбер делал вид, что не понимает, и молчал.
Тогда вышел д’Артаньян и, достав из кармана медаль, вручил ее королю:
— Вот медаль, о которой говорит ваше величество.
Король взял ее. И собственными глазами, которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на все свысока, он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу Навину, останавливала солнце, и следующую надпись: «In conspectu meo, stetit sol».
— «В моем присутствии остановилось солнце», — гневно воскликнул король. — Надеюсь, вы больше не будете отрицать?
— Вот это солнце, — сказал д’Артаньян.
И он указал на красовавшееся во всех простенках солнце, повсюду повторявшуюся пышную эмблему с горделивым девизом: «Neс pluribus impar»17Не равный многим (лат.). .
Гнев Людовика, и без того достаточно подогреваемый личными неприятностями, не нуждался в этой новой пище. По его сверкающим глазам видно было, что сейчас разразится гроза. Взгляд Кольбера обуздал порыв короля.
Посол набрался храбрости и стал приносить извинения. Он говорил, что не следует придавать большого значения национальному тщеславию; что Голландия гордится положением великой державы, которого она добилась, несмотря на малые свои силы, и, если ее успехи немного опьянили соотечественников посла, он просит короля проявить снисходительность.
Король, в поисках совета, взглянул на Кольбера, но тот не шевельнулся.
Потом он посмотрел на д’Артаньяна. Д’Артаньян пожал плечами.
Это движение как бы открыло шлюз, через который хлынул слишком долго сдерживаемый гнев короля. Никто не знал, куда устремится поток, и потому воцарилось тяжелое молчание.
Им воспользовался второй посол и тоже стал извиняться. Во время его речи король снова погрузился в задумчивость, слушая взволнованный голос голландца, как рассеянный человек слушает журчание фонтана. Заметив это, д’Артаньян наклонился к де Сент-Эньяну и сказал ему, так размеряя голос, чтобы его услышал король:
— Вы знаете новость, граф?
— Какую новость?
— О Лавальер.
Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников.
— А что случилось с ней? — спросил де Сент-Эньян тоном, который нетрудно представить себе.
— Бедняжка ушла в монастырь, — отвечал д’Артаньян.
— В монастырь? — воскликнул де Сент-Эньян.
— В монастырь? — повторил вслед за ним король посреди речи посла.
Подчиняясь требованиям этикета, он вскоре овладел собой, но продолжал прислушиваться к разговору.
— В какой монастырь? — удивился де Сент-Эньян.
— В монастырь кармелиток в Шайо.
— Откуда вы это знаете?
— От нее самой.
— Разве вы ее видели?
— Я сам проводил ее в монастырь.
Король ловил каждое слово; все в нем кипело; он готов был застонать.
— Почему же она бежала? — спросил де Сент-Эньян.
— Потому, что вчера бедняжку прогнали из дворца, — отвечал д’Артаньян.
Едва он проговорил эти слова, как король сделал повелительное движение рукой.
— Довольно, сударь, — сказал он, обращаясь к послу, — довольно!
Затем, подойдя к мушкетеру, воскликнул:
— Кто здесь говорит, что Лавальер в монастыре?
— Господин д’Артаньян, — отвечал фаворит.
— Это правда? — взглянул король на мушкетера.
— Совершеннейшая правда.
Король побледнел.
— Вы еще что-то сказали, господин д’Артаньян?
— Не помню, государь.
— Вы сказали, что мадемуазель де Лавальер прогнали из дворца.
— Да, государь.
— И это тоже правда?
— Сами узнайте, государь.
— От кого?
— О! — произнес д’Артаньян с видом человека, который показывает, что он не может исполнить просьбу.
Король порывисто отошел в сторону, оставив и послов, и министров, и придворных. Королева-мать встала; она все слышала, а чего не слышала, о том догадалась. Принцесса чуть не лишилась чувств от гнева и от страха; она тоже попыталась встать, но сейчас же снова упала в кресло, которое от этого движения откатилось назад.
— Господа, — сказал король, — аудиенция окончена; завтра я дам ответ, или, вернее, объявлю свою волю Испании и Голландии.
И повелительным жестом он отпустил послов.
— Берегитесь, сын мой! — с негодованием воскликнула вдовствующая королева. — Вы, кажется, плохо владеете собой.
— Если я не способен владеть собой, — зарычал юный лев с угрожающим жестом, — то ручаюсь вам, ваше величество, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдемте со мной, господин д’Артаньян.
Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Он сбежал с лестницы и направился через двор.
— Государь, — обратился к нему д’Артаньян, — ваше величество идете не в ту сторону.
— Я иду к конюшням.
— Незачем, государь. Лошади для вашего величества приготовлены.
Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем все, на что могло рассчитывать честолюбие трех д’Артаньянов.
XXXVI. Шайо
Хотя никто их не звал, Маникан и Маликорн пошли за королем и д’Артаньяном. Они оба были очень умны, но честолюбие часто приводило Маликорна слишком рано, Маникан же вследствие лени часто опаздывал. На этот раз оба они явились вовремя.
Было приготовлено пять лошадей. Две предназначались для короля и д’Артаньяна; две для Маникана и Маликорна. На пятую сел паж. Кавалькада поскакала галопом. Д’Артаньян сам выбрал лошадей. Они как нельзя лучше подходили для разлученных влюбленных: лошади не бежали, а летели. Через десять минут кавалькада вихрем примчалась в Шайо, вздымая облако пыли.
Король буквально спорхнул с лошади. Но как ни стремительно было это движение, д’Артаньян уже стоял на земле. Людовик знаком поблагодарил мушкетера и бросил повод пажу. Затем он вбежал в дом и, быстро распахнув дверь, вошел в приемную.
Маникан, Маликорн и паж остались за оградой. Д’Артаньян последовал за королем.
При входе в приемную первое, что заметил король, была Луиза — не на коленях, но распростертая на полу перед большим каменным распятием.
Девушка лежала на сырых плитах, еле видная в сумраке залы, освещенной только узким решетчатым окном, почти совсем закрытым вьющимися растениями. Она была одна, неподвижная, холодная, как камень, на который упало ее тело. Король, подумав, что она мертва, громко вскрикнул; тотчас же к нему подбежал д’Артаньян.
Король уже обвил одной рукой стан девушки. Д’Артаньян помог королю поднять бедняжку, которая вся оцепенела. Король схватил ее в объятия и стал согревать поцелуями ее ледяные руки и виски.
Д ‘Артаньян ударил в колокол. На звон его сбежались кармелитки. Монахини возмущенно закричали при виде двух мужчин, поддерживавших какую-то женщину.
Прибежала и настоятельница. Но, несмотря на свою суровость, она была более светской женщиной, чем придворные дамы, и с первого же взгляда узнала короля по тому почтению, которое ему оказывали спутники, по той властности, с какой он держался. При виде короля настоятельница сейчас же удалилась, ибо только таким способом она могла сохранить свое достоинство. Но она прислала с монахинями разные лекарства, приказав им, кроме того, запереть двери.
Давно было пора: горе короля выражалось все более бурно. Он уже решил послать за своим доктором, но в эту минуту Лавальер пришла в себя. Открыв глаза, она прежде всего увидела у своих ног короля. Без сомнения, она не поняла, кто это, и горестно вздохнула.
Людовик пожирал ее жадным взором. Наконец ее блуждающий взгляд остановился на короле. Она узнала его и попыталась вырваться из его объятий.
— Как! — прошептала она. — Жертвоприношение еще не совершено?
— Нет, нет! — отвечал король. — Оно и не будет совершено, клянусь вам.
Несмотря на свою слабость, Лавальер поднялась.
— Но оно должно быть совершено, — проговорила она. — Не останавливайте меня.
— Как! Вы хотите, чтобы я позволил вам принести себя в жертву? — вскричал король. — Ни за что, никогда!
— Ну, пора уходить! — прошептал д’Артаньян. — Раз они начали разговаривать, избавим их от посторонних ушей.
Д’Артаньян ушел, влюбленные остались одни.
— Государь! — говорила Лавальер. — Умоляю вас, ни слова больше. Не губите мою жизнь, мое будущее; не губите вашей славы ради минутной прихоти.
— Прихоти! — воскликнул король.
— О, теперь, государь, — продолжала Лавальер, — я ясно читаю в вашем сердце.
— Вы, Луиза?
— Да, я.
— Объяснитесь.
— Непонятное, безрассудное увлечение на несколько минут могло показаться вам достаточным оправданием. Но у вас есть обязанности, несовместимые с любовью к бедной девушке. Забудьте меня.
— Забыть?
— Дело уже сделано.
— Скорее умру!
— Государь, вы не можете любить ту, которую решились убить так жестоко сегодня ночью.
— Что вы говорите? Не понимаю.
— О чем вы просили меня вчера утром? Любить вас? Что вы обещали взамен? Никогда не ложиться в постель, не примирившись со мной, если вам случится рассердиться на меня.
— Простите меня, простите, Луиза! Ревность свела меня с ума.
— Государь, ревность — дурное чувство, которое разрастается, как сорная трава, если его не вырвать с корнем. Вы опять будете ревновать и скоро погубите меня. Сжальтесь, дайте мне умереть.
— Еще одно слово, мадемуазель, и я умру у ваших ног.
— Нет, нет, государь, я себя лучше знаю, чем вы. Не губите и вы себя из-за несчастной, которую все презирают.
— О, назовите мне ваших преследователей, умоляю вас!
— Я ни на кого не жалуюсь, государь: я обвиняю только себя. Прощайте, государь! Разговаривая со мной таким образом, вы компрометируете себя.
— Берегитесь, Луиза! Своими словами вы приводите меня в отчаяние; берегитесь!
— Государь, умоляю вас, разрешите мне остаться в этом монастыре!
— Я отниму вас у самого бога.
— Но прежде, — вскричала бедняжка, — вырвите меня из рук ожесточенных врагов, покушающихся на мою жизнь, на мою честь. Если у вас достаточно силы для любви, найдите же в себе силы защитить меня. Ту, кого, по вашим словам, вы любите, оскорбляют, осыпают насмешками, выгоняют.
И кроткая девушка, в припадке горя начавшая жаловаться, с рыданиями ломала руки.
— Вас выгнали! — вскричал король. — Вот уже второй раз, как я слышу это слово.
— С позором, государь. Вы видите теперь, что у меня один только защитник — бог, одно утешение — молитва, один приют — монастырь.
— У вас будет мой дворец, мой двор. Не бойтесь, Луиза; те, кто вчера выгнал вас, завтра будут трепетать перед вами. Что я говорю: завтра — сегодня утром они уже почувствовали мою силу. Луиза, Луиза, вы будете жестоко отомщены. Кровавыми слезами заплатят обидчики за ваши слезы. Назовите мне их имена.
— Никогда! Ни за что!
— Как же я тогда накажу их?
— Государь, ваша рука оцепенеет, когда вы увидите, кого нужно наказать.
— О, вы меня не знаете! — перебил ее Людовик. — Я ни перед чем не остановлюсь. Я испепелю все королевство и прокляну собственную семью. Да, я отсеку даже эту руку, если она окажется настолько трусливой, что не в состоянии будет сокрушить врагов самого кроткого и милого создания в мире.
И действительно, произнося эти слова, Людовик с силой ударил кулаком по дубовой перегородке, которая глухо застонала.
Лавальер ужаснулась. В гневе этого всесильного юноши было нечто величавое и зловещее, как в ярости разбушевавшихся стихий. И Луиза, думавшая, что ничье горе не может сравниться с ее страданиями, была побеждена горем короля, выражавшимся в угрозах и гневе.
— Государь, — сказала она, — в последний раз умоляю вас, оставьте меня. Я уже обрела спокойствие в этом святом месте. Бог — защитник, перед которым рушится вся мелкая людская злоба. Государь, еще раз прошу, разрешите мне жить здесь.
— В таком случае, — воскликнул Людовик, — скажите откровенно, что вы никогда меня не любили, скажите, что мое унижение, мое раскаяние льстят вашей гордости, но мое горе не печалит вас. Скажите, что французский король для вас не возлюбленный, нежность которого могла бы дать вам счастье, а деспот, прихоть которого разбила ваше сердце. Не говорите, что вы стремитесь к богу: скажите, что вы бежите от короля. Нет, бог не сообщник непреклонных решений; бог допускает раскаяние, прощает, бог не противится любви.
Слыша эти слова, вливавшие огонь в ее жилы, Луиза отчаянно рыдала.
— Значит, вы не поняли? — сказала она.
— Чего?
— Что меня выгнали, что меня презирают и что я достойна презрения?
— Я окружу вас уважением, вы будете самой обожаемой женщиной при моем дворе, вам все будут завидовать.
— Докажите, что вы не разлюбили меня.
— Каким образом?
— Оставьте меня.
— Я докажу свою любовь, не расставаясь с вами.
— Но неужели, государь, вы думаете, что я допущу это? Неужели вы думаете, что я позволю вам объявить войну всей вашей семье? Неужели вы думаете, что я позволю вам оттолкнуть из-за меня мать, жену и сестру!
— А, наконец-то вы назвали ваших обидчиков! Клянусь всемогущим богом, я их накажу!
— Вот поэтому-то будущее и страшит меня. Поэтому я отказываюсь от всего. Поэтому я не хочу, чтобы вы мстили за меня. Довольно слез, горя, жалоб! Я никогда не причиню никому страданий, не буду виновницей ничьих слез. Довольно я сама наплакалась, довольно настрадалась!
— А мое горе, мои стенания, мои слезы для вас ничего не значат?
— Ради бога, государь, не говорите так! Мне необходимо мужество, чтобы принести эту жертву.
— Луиза, Луиза, умоляю тебя! Приказывай, распоряжайся, карай или милуй, только не покидай меня!
— Увы, государь, нам необходимо расстаться.
— Значит, ты меня не любишь?
— Бог видит, что люблю!
— Ложь, ложь!
— Если бы я не любила, государь, я бы не стала вас удерживать; я отомстила бы за нанесенные оскорбления торжеством над врагами, которое вы мне предлагаете. Но видите, я не хочу даже сладостного возмездия в виде вашей любви, любви, составляющей смысл моей жизни: ведь я хотела умереть, думая, что вы меня больше не любите.
— Да, да, теперь мне все понятно. Вы святая, вы заслуживаете всяческого уважения. Поэтому ни одна женщина в мире не будет так любима мной, как вы, Луиза; ни одна женщина не приобретет надо мной такой власти. Клянусь вам, я разбил бы вдребезги весь мир, если бы мир стал между мной и вами. Вы приказываете мне успокоиться, простить? Хорошо, я успокоюсь. Вы хотите кротости и благости? Я буду милостив и кроток. Приказывайте, я буду повиноваться…
— Боже мой! Имею ли я, бедная девушка, право продиктовать хоть полслова такому могущественному королю, как вы?
— Вы жизнь моя и душа моя! Разве не душа управляет телом?
— Значит, вы меня любите, дорогой государь?
— Всеми силами моей души. Я с улыбкой отдал бы за вас жизнь, стоит вам сказать только слово.
— Вы меня любите?
— Да, да!
— Значит, мне нечего больше желать в этом мире… Дайте вашу руку, государь, и мы простимся. Я испытала в этой жизни все счастье, которое мне было суждено.
— Нет, нет! Твоя жизнь только начинается. У твоего счастья не было вчера, у него есть сегодня, завтра и все грядущее! Прочь мысли о разлуке, прочь мрачное отчаяние: любовь — наш бог, она потребность наших душ. Ты будешь жить для меня, а я для тебя. — И, упав перед ней на колени, Людовик в порыве невыразимой радости и благодарности стал покрывать поцелуями ее ноги.
— Государь! Государь! Все это только сон.
— Почему сон?
— Потому что я не могу вернуться ко двору. Я изгнанница; как мне с вами видеться? Не лучше ли мне замуровать себя в монастыре и жить воспоминаниями о вашей любви, о последних порывах вашего сердца и вашем последнем признании? Повторяю вам, я уже испытала все определенные мне судьбой радости.
— Вы — изгнанница? — вскричал Людовик XIV. — Кто смеет изгонять, если я призываю?
— О, государь, есть сила, над которой не властны короли: свет и общественное мнение. Подумайте, разве король может любить изгнанную из дворца женщину, которую его мать запятнала подозрением, а сестра заклеймила наказанием? Такая женщина недостойна короля.
— Недостойна меня женщина, которая мне принадлежит?
— Да, именно, государь. С момента, как она вам принадлежит, ваша любовница недостойна вас.
— Вы правы, Луиза. Но вы не будете больше изгнанницей.
— Должно быть, вы еще не разговаривали с принцессой.
— Я обращусь к своей матери.
— Значит, вы не виделись и с матерью.
— Разве и она? Бедная Луиза! Так против вас все?
— Да, бедная Луиза, уже надломленная бурей, когда вы пришли сюда, а теперь окончательно изнемогшая.
— Простите меня.
— Словом, вы не смягчите ни мать, ни сестру. Поверьте, зло непоправимо, потому что я никогда не позволю вам прибегнуть к насилию.
— Хорошо, для доказательства моей любви к вам, Луиза, я сделаю невозможное: я пойду к принцессе.
— Вы?
— Я потребую у нее отмены решения, я заставлю ее.
— Заставите? Нет, нет!
— В таком случае я упрошу ее.
Луиза покачала головой.
— Если понадобится, я не остановлюсь перед мольбами, — продолжал Людовик. — Поверите ли вы после этого моей любви?
Луиза подняла на него взгляд:
— Ради бога, не унижайтесь из-за меня; пусть я лучше умру.
Людовик задумался. Его лицо омрачилось.
— Я буду любить так, как вы любили, — молил он, — я перенесу все, что вы перенесли; пусть это будет моим искуплением в ваших глазах. Отбросим все мелкое. Будем велики, как наше горе, и сильны, как наша любовь!
Произнося эти слова, он обвил руками ее стан.
— Единственная моя радость, жизнь моя, поедемте со мной!
Она сделала последнее усилие, сосредоточив в нем не свою волю — ее воля была уже побеждена, — а остаток своей энергии.
— Нет, нет! — чуть слышно прошептала она. — Я умерла бы от стыда.
— Вы вернетесь, как королева. Никто не знает о вашем побеге… Один только д’Артаньян…
— Значит, и он меня предал?
— Каким образом?
— Он поклялся…
— Я поклялся не говорить королю, — молвил д’Артаньян, просовывая голову в приоткрытую дверь, — и я сдержал свое слово. Я беседовал с господином де Сент-Эньяном, не моя вина, если король услышал меня. Не правда ли, государь?
— Да, верно, простите его, — попросил король.
Лавальер с улыбкой протянула мушкетеру свою маленькую белую ручку.
— Господин д’Артаньян, — сказал восхищенный король, — раздобудьте теперь карету для мадемуазель.
— Государь, — отвечал капитан, — карета готова.
— Образец услужливости! — воскликнул король.
— Не скоро же ты оценил меня, — прошептал д’Артаньян, все же польщенный похвалой.
Лавальер была побеждена; ослабевшая девушка позволила своему царственному возлюбленному увести себя. Но у дверей приемной она вырвалась из королевских объятий и снова бросилась к распятию, целуя его и приговаривая:
— Боже мой, ты привел меня к себе, ты и оттолкнул; но милость твоя бесконечна. Только, когда я вернусь, забудь, что я уходила, потому что тогда я больше не покину тебя.
Из груди короля вырвалось рыдание. Д’Артаньян вытер слезу. Людовик увел девушку, усадил в карету и поместил с ней д’Артаньяна.
Король сел на лошадь и поскакал ко дворцу. Сейчас же по приезде он попросил принцессу принять его.
XXXVII. У принцессы
Наблюдая окончание приема послов, даже наименее дальновидные почуяли войну.
Сами послы, плохо осведомленные в интимной дворцовой хронике, отнесли на свой счет вырвавшуюся у короля фразу: «Если я не способен владеть собой, я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет».
К счастью для судеб Франции и Голландии, Кольбер пошел вслед за послами и сделал им некоторые разъяснения. Но королевы и принцесса были в курсе всех событий, так что угроза короля сильно их раздосадовала и не на шутку испугала.
В особенности принцесса чувствовала, что королевский гнев обрушится на нее. Гордость не позволила ей, однако, обратиться за поддержкой к королеве-матери, и она удалилась к себе хотя и в тревоге, но нисколько не стремясь уклониться от борьбы. Время от времени Анна Австрийская посылала справиться, вернулся ли король.
Царившее во дворце молчание по поводу исчезновения Луизы предвещало много бед: всем был известен крутой и раздражительный нрав короля.
Но принцесса, не обращая никакого внимания на слухи, заперлась в своей комнате, позвала Монтале и самым спокойным тоном стала расспрашивать фрейлину о случившемся. Когда красноречивая Монтале в осторожных выражениях заканчивала свой рассказ и советовала принцессе быть снисходительной, говоря, что при этом условии и другая сторона проявит снисходительность, на пороге появился г-н Маликорн с просьбой короля об аудиенции.
На лице достойного друга Монтале выражалось самое сильное волнение. Он чувствовал, что свидание, испрашиваемое Людовиком, должно было явиться одной из интереснейших глав повести о сердце королей.
Принцесса была встревожена посещением деверя; она не думала увидеть его так скоро и, главное, не ожидала от короля такого прямого действия. Женщины привыкли вести войну обходными путями и оказываются очень неискусными и слабыми, когда приходится принять бой лицом к лицу.
Как мы уже сказали, принцесса не принадлежала к числу людей, которые отступают, скорее она отличалась противоположным недостатком или противоположным достоинством. Она всячески подогревала свою смелость, а потому известие, принесенное ей Маликорном, произвело на нее действие сигнального рожка, обозначающего открытие военных действий. Она гордо подняла брошенную перчатку.
Через пять минут король уже поднимался по лестнице. Он раскраснелся от быстрой езды. Его измятый и запыленный костюм представлял резкий контраст со свежим и изысканным туалетом побледневшей принцессы. Людовик сел, не дожидаясь приглашения. Монтале скрылась. Принцесса тоже села.
— Сестра моя! — начал Людовик. — Известно ли вам, что сегодня утром мадемуазель де Лавальер бежала, принужденная унести свою скорбь, свое отчаяние в монастырь?
Эти слова были произнесены крайне взволнованным тоном.
— В первый раз слышу об этом из уст вашего величества, — отвечала принцесса.
— А я думал, что вы узнали новость утром, во время приема послов, — сказал король.
— По вашему волнению, государь, я действительно предположила, что произошло что-то необыкновенное, но что именно, я не поняла.
Король действовал открыто и шел прямо к цели.
— Сестра моя, — снова заговорил он, — почему вы уволили мадемуазель де Лавальер?
— Потому что ее услуги не нравились мне, — сухо отвечала принцесса.
Король побагровел, и глаза его так засверкали, что принцесса с трудом выдержала его взгляд. Однако он овладел собой и продолжал:
— Необходима очень серьезная причина, сестра моя, чтобы такая добрая женщина, как вы, прогнала и обесчестила не только эту девушку, но и всю ее семью. Вы знаете, что город внимательно наблюдает за поведением придворных дам. Уволить фрейлину — значит обвинить ее в преступлении или в серьезном проступке. Какое же преступление, какой проступок совершила мадемуазель де Лавальер?
— Раз вы берете на себя роль покровителя мадемуазель де Лавальер, — холодно произнесла принцесса, — я дам вам объяснение, хотя имею право никому не давать его.
— Даже королю? — гневно вскричал Людовик.
— Вы назвали меня вашей сестрой, — напомнила принцесса, — и я у себя дома.
— Все равно! — ответил Людовик, устыдившись своего порыва. — Ни вы, принцесса, и никто в моем королевстве не вправе отказаться об объяснений, если я их требую.
— Если вы так ставите вопрос, — сказала принцесса с глухим гневом, — мне остается только повиноваться вашему величеству и замолчать.
— Не будем играть словами.
— Покровительство, которое вы оказываете мадемуазель де Лавальер, заставляет меня относиться к ней почтительно.
— Повторяю, не будем играть словами. Вы знаете, что я глава французского дворянства и должен охранять честь всех дворянских семей. Вы прогоняете мадемуазель де Лавальер или другую фрейлину…
Принцесса пожала плечами.
— Или, повторяю, другую фрейлину, — продолжал король, — и своим поступком позорите ее, поэтому я прошу у вас объяснения, чтобы утвердить или опротестовать ваш приговор.
— Опротестовать мой приговор? — надменно воскликнула принцесса. — Как! Если я прогнала одну из своих служанок, то вы прикажете мне принять ее обратно?
Король промолчал.
— Это было бы не только превышением власти, государь; это было бы неприлично.
— Принцесса!
— Да, если бы я не возмутилась против такого попирания моего достоинства, я не была бы принцессой вашей крови, дочерью короля; я опустилась бы ниже выгнанной мною служанки.
Король в бешенстве вскочил.
— У вас нет сердца, принцесса, — вскричал он. — Если вы так поступаете со мной, позвольте и мне поступить с вами сурово.
Иногда шальная пуля меняет исход сражения. Эти неумышленно сорвавшиеся у короля слова поразили принцессу и на мгновение поколебали ее; она испугалась, как бы ее не постигла опала.
— Объяснитесь, пожалуйста, государь, — попросила она.
— Я вас спрашиваю, принцесса, в чем провинилась мадемуазель де Лавальер?
— Она большая интриганка; из-за нее дрались на дуэли два друга, она вызвала о себе самые неблаговидные толки, так что весь двор хмурит брови при одном звуке ее имени.
— Лавальер? — спросил король.
— Под ее кроткой и лицемерной внешностью, — продолжала принцесса, — скрывается хитрая и злобная душа.
— У Лавальер?
— Вы легко можете впасть в заблуждение, государь, но я хорошо ее знаю: она способна посеять вражду между ближайшими родственниками, между самыми близкими друзьями. Видите, она уже сеет раздор между нами.
— Уверяю вас… — начал король.
— Государь, ведь мы жили в добром согласии, а своими доносами, своими коварными жалобами она поселила в вашем величестве нерасположение ко мне.
— Клянусь, — сказал король, — что с ее губ ни разу не сорвалось недоброго слова; клянусь, что даже при виде моего гнева она умоляла меня никому не мстить; клянусь, что у вас нет более преданного и почтительного друга, чем она.
— Друга? — произнесла принцесса с выражением величайшего презрения.
— Берегитесь, принцесса, — остановил ее король, — вы забываете о моем отношении к Лавальер; с этого момента все уравнивается. Мадемуазель де Лавальер будет тем, чем я захочу ее сделать, и завтра же, если мне вздумается, она взойдет на трон.
— Все же она не рождена на нем; вы можете устроить ее будущее, но не властны изменить ее прошлое.
— Принцесса, я был с вами очень сдержан и очень вежлив. Не заставляйте меня вспомнить, что я король.
— Государь, вы мне сказали это уже два раза. И я имела честь ответить вам, что я — в вашей власти.
— В таком случае согласны вы оказать мне любезность и снова взять к себе мадемуазель де Лавальер?
— Зачем, государь? Ведь у вас есть трон, который вы можете ей дать. Я слишком ничтожна, чтобы покровительствовать такой могущественной особе.
— Довольно злобы и презрения! Окажите мне милость ради меня.
— Никогда!
— Вы принуждаете меня начать войну в собственной семье?
— У меня тоже есть семья, и я найду у нее приют.
— Что это — угроза? Вы забылись до такой степени? Неужели вы думаете, что, если дело дойдет до разрыва, ваши родственники окажут вам поддержку?
— Надеюсь, государь, что вы не принудите меня к поступкам, которые были бы недостойны моего положения.
— Я надеялся, что вы вспомните нашу дружбу и будете обращаться со мной, как с братом.
Принцесса на мгновение задумалась.
— Я не думала, что я поступаю не по-родственному, отказываясь совершить несправедливость.
— Несправедливость?
— Ах, государь, если я открою всем поведение Лавальер, если узнают королевы…
— Полно, полно, Генриетта, не заглушайте голоса сердца; вспомните, что вы меня любили, вспомните, что человеческое сердце должно быть так же милосердно, как и сердце всевышнего. Не будьте безжалостны и непреклонны, простите Лавальер.
— Не могу. Она меня оскорбила.
— Но ради меня, ради меня!
— Государь, я сделаю для вас все, кроме этого.
— Вы повергаете меня в отчаяние… Вы побуждаете меня обратиться к последнему средству слабых людей: к гневу и мести.
— Государь, я побуждаю вас обратиться к разуму.
— К разуму?.. Сестра, я потерял его.
— Государь, ради бога!
— Сжальтесь, сестра, в первый раз в жизни я умоляю; вы — моя последняя надежда.
— Государь, вы плачете?
— Да, от бешенства, от унижения. Быть вынужденным опуститься до просьб мне — королю! Всю жизнь я буду проклинать это мгновение. В одну секунду вы причинили мне больше зла, чем его можно вообразить в самые мрачные минуты жизни.
И король дал волю своим слезам, которые были действительно слезами гнева и стыда. Принцесса была не то что тронута — самые чуткие женщины не чувствуют сострадания к мукам гордости, — но она испугалась, как бы эти слезы не унесли из сердца короля всякую человечность.
— Приказывайте, государь! — поклонилась она. — Если вы предпочитаете мое унижение вашему, хотя мое будет известно всем, а ваше видела только я, — я готова повиноваться.
— Нет, нет, Генриетта! — воскликнул Людовик в порыве благодарности. — Вы уступите просьбе брата!
— Я повинуюсь, — значит, у меня нет больше брата!
— Хотите в благодарность все мое королевство?
— Как вы любите, когда любите!
Людовик не отвечал. Взяв руку принцессы, он покрывал ее поцелуями.
— Итак, — сказал он, — вы примете эту бедную девушку, вы простите ее, вы признаете ее кротость, правоту ее сердца?
— Я буду ее держать у себя в доме.
— Нет, вы вернете ей вашу дружбу, дорогая сестра.
— Я ее никогда не любила.
— Ну так из любви ко мне вы будете обращаться с ней ласково, не правда ли, Генриетта?
— Хорошо, я буду обращаться с ней, как с вашей возлюбленной.
Король встал. Этими некстати сорвавшимися словами принцесса уничтожила всю заслугу своего самопожертвования. Король больше ничем не был ей обязан.
Уязвленный, смертельно обиженный, он отвечал:
— Благодарю, принцесса. Я буду вечно помнить оказанную вами милость.
И он простился с ней подчеркнуто церемонным поклоном.
Проходя мимо зеркала, он увидел, что глаза у него покраснели, и гневно топнул ногой. Но было поздно: Маликорн и д’Артаньян, стоявшие у дверей, успели заметить заплаканные глаза.
«Король плакал», — подумал Маликорн.
Д’Артаньян почтительно подошел к Людовику.
— Государь, — прошептал он, — вам следует вернуться к себе по маленькой лестнице.
— Почему?
— Потому что у вас на лице остались следы дорожной пыли. Идите, государь, идите. «Гм, гм! — подумал он, когда король послушался его, как ребенок. — Горе тому, кто доведет до слез женщину, которая могла так расстроить короля».
XXXVIII. Платочек мадемуазель де Лавальер
Принцесса не была злой; она была только вспыльчива. Король не был безрассуден; он был только влюблен. Едва лишь они заключили что-то вроде договора, восстанавливавшего Лавальер в правах, как оба постарались извлечь из него выгоду.
Король хотел видеть Лавальер каждую минуту. Принцесса, досадовавшая на короля после разыгравшейся между ними сцены, не желала допускать этого. Поэтому она создавала затруднения на каждом шагу короля.
Действительно, чтобы встречаться с любовницей, королю приходилось ухаживать за невесткой. На этом была построена вся политика принцессы. Она выбрала себе в компаньонки Монтале, и, приходя к принцессе, король всегда оказывался в окружении дам. От него не отходили ни на шаг. Разговоры принцессы были верхом остроумия и изящества.
Монтале неизменно сопровождала принцессу. Скоро король совсем перестал выносить ее. Монтале только этого и ждала. Тотчас она пустила в ход Маликорна; воспользовавшись каким-то предлогом, молодой человек сказал королю, что при дворе есть одна очень несчастная женщина. Король спросил, кто эта женщина. Маликорн отвечал: мадемуазель де Монтале. На это король заявил, что он рад несчастью той особы, которая делает несчастными других.
Маликорн передал эти слова мадемуазель де Монтале, и та приняла меры. Глаза короля открылись; он заметил, что где бы он ни появлялся, там тотчас же возникала принцесса; она провожала его, чтобы он не заговорил в передней с кем-нибудь из фрейлин.
А однажды принцесса пошла еще дальше.
Король сидел среди дам и держал в руке под манжеткой записку, которую он хотел незаметно передать Лавальер. Принцесса разгадала его намерение. Было трудно помешать королю пойти, куда ему вздумается. Однако нужно было не дать ему приблизиться к Лавальер, поздороваться с ней и уронить записку на колени, за веер или в носовой платок.
Король тоже наблюдал и почуял ловушку. Он встал, придвинул кресло к мадемуазель де Шатильон и принялся шутить с ней.
Играли в буриме; от мадемуазель де Шатильон Людовик перешел к Монтале, а потом к мадемуазель де Тонне-Шарант. При помощи этого искусного маневра он оказался рядом с Лавальер, которую совсем заслонил своей фигурой.
Принцесса делала вид, будто она вся поглощена рукоделием.
Король показал Лавальер кончик записки, и та протянула платок, приглашая взглядом: «Положите записку сюда». Тогда король ловко уронил на пол свой носовой платок, лежавший на кресле.
Лавальер тотчас же незаметно положила на его место собственный платок. Король как ни в чем не бывало взял его, сунул туда записку и бросил платок на прежнее место. Лавальер оставалось только протянуть руку, чтобы взять платок с драгоценной запиской.
Но принцесса видела все. Она громко приказала Шатильон:
— Шатильон, поднимите, пожалуйста, платок короля. Он упал на ковер.
Фрейлина моментально исполнила приказание; король чуть приподнялся на месте, Лавальер смутилась, и все увидели на кресле другой платок.
— Ах, простите, у вашего величества два платка, — сказала фрейлина.
Королю пришлось спрятать в карман платок Лавальер вместе с своим собственным. Таким образом, он получал его на память от своей возлюбленной, но возлюбленная лишалась четверостишия, которое стоило королю десяти часов напряженной работы и было, может быть, равноценно целой поэме. Понятно, что король рассердился, а Лавальер пришла в отчаяние.
Но тут произошло невероятное событие. Когда король уходил, его встретил в передней кем-то предупрежденный Маликорн.
Передние в Пале-Рояле были темные и по вечерам освещались плохо. Король любил полумрак. Известно, что любовь, воспламеняющая душу и сердце, избегает света.
Итак, в передней было темно; паж освещал факелом дорогу его величеству. Король шел медленно, едва сдерживая гнев. Маликорн чуть не наткнулся на короля и стал просить извинения по всем правилам придворного этикета, но король был в дурном настроении и сердито что-то ответил; Маликорн бесшумно скрылся.
В этот вечер Людовик немного поспорил с королевой и на другой день утром, проходя в кабинет, почувствовал желание поцеловать платок Лавальер. Он кликнул камердинера.
— Принесите мне мой вчерашний костюм, но не трогайте ничего в карманах.
Приказание было исполнено. Король собственноручно обшарил карманы. Он нашел только свой платок; платок Лавальер исчез.
В то время как король терялся в догадках, ему принесли письмо от Лавальер. Луиза писала:
«Как вы любезны, дорогой государь, прислав мне такие прекрасные стихи! Как ваша любовь изобретательна и постоянна! Можно ли не любить вас?»
«Что же это значит? — подумал король. — Тут какая-то ошибка!»
— Хорошенько поищите, — приказал он камердинеру. — У меня в кармане должен лежать платок, и если вы его не найдете, если вы его трогали…
Людовик одумался. Создать государственное преступление из пропажи платка было бы большой неосторожностью. И он прибавил:
— Я положил в этот платок одну важную бумагу.
— Государь, — сказал камердинер, — в карманах у вашего величества был только один платок, вот этот.
— Да, вы правы, — отвечал король, стиснув зубы. — О бедность, как я тебе завидую! Счастлив, кто сам вынимает из кармана носовые платки и записки!
Он перечитал письмо Лавальер, стараясь сообразить, каким путем его четверостишие могло дойти по назначению. В письме оказалась приписка:
«С вашим же посланным я отправляю свой ответ, так мало достойный стихов».
— Вот как! Теперь у меня есть путеводная нить, — радостно воскликнул Людовик. — Кто принес эту записку?
— Господин Маликорн, — робко ответил лакей.
— Пусть он войдет.
Вошел Маликорн.
— Вы от мадемуазель де Лавальер? — со вздохом спросил король.
— Да, государь.
— Вы относили мадемуазель де Лавальер что-нибудь от меня?
— Я, государь?
— Да, вы.
— Ничего, государь, ровно ничего.
— А между тем мадемуазель де Лавальер пишет мне об этом.
— Государь, мадемуазель де Лавальер ошибается.
Король нахмурил брови.
— Что это за игра? Почему же мадемуазель де Лавальер называет вас моим посланным? Что вы отнесли этой даме? Отвечайте скорее, сударь!
— Государь, я отнес мадемуазель де Лавальер носовой платок и больше ничего.
— Платок… Какой платок?
— Государь, в ту минуту когда я вчера имел несчастье толкнуть ваше величество… несчастье, которое я буду оплакивать всю жизнь, особенно после того, как ваше величество изволили выразить свое неудовольствие, — в ту минуту, государь, я остолбенел от горя и увидел на полу что-то белое.
— А! — воскликнул король.
— Я нагнулся, это был платок. Сперва я подумал, что ваше величество, столкнувшись со мной, выронили платок; но, почтительно разглядев его, я обнаружил на нем вензель, и оказалось, что это вензель мадемуазель де Лавальер; я подумал, что мадемуазель де Лавальер уронила платок по дороге в зал, и, когда она возвращалась, я подал ей этот платок. Клянусь вашему величеству, что все это правда!
Маликорн говорил так искренне, так огорченно и так робко, что король с величайшим удовольствием слушал его. Он был благодарен ему за эту случайность, как за величайшую услугу.
— Вот уже второй раз встреча с вами приносит мне счастье, сударь, — сказал король, — можете рассчитывать на мое благорасположение.
На самом деле Маликорн просто-напросто вытащил платок из кармана короля с такой ловкостью, что ему позавидовал бы самый заправский карманник славного города Парижа.
Принцесса так и не узнала об этом происшествии. Но Монтале намекнула на него Лавальер, и Лавальер впоследствии рассказала все королю, который много смеялся и назвал Маликорна великим политиком. Людовик XIV был прав; всем известно, что он умел разбираться в людях.
XXXIX. Где говорится о садовниках, лестницах и фрейлинах
К несчастью, чудеса не могли продолжаться, а дурное настроение принцессы не менялось к лучшему. Через неделю король уже не мог посмотреть на Лавальер без того, чтобы не встретиться с подозрительным взглядом принцессы.
Когда назначали прогулку, принцесса немедленно заболевала, не желая повторения сцены во время дождя или под королевским дубом. По нездоровью она не выходила, а с нею оставались и ее фрейлины.
Не было ни малейшей возможности устраивать ночные свидания. При первой же попытке в этом направлении король потерпел жалкую неудачу.
Как и в Фонтенбло, он взял с собою де Сент-Эньяна и вместе с ним отправился к Лавальер. Но он застал только мадемуазель де Тонне-Шарант, которая стала кричать: «Пожар, воры!» Прибежал целый легион горничных, надзирательниц и пажей. В результате де Сент-Эньян, оставшийся на месте происшествия, чтобы спасти честь своего господина, навлек на себя строжайший выговор от вдовствующей королевы и принцессы. Кроме того, на следующий день он получил два вызова от представителей семьи Мортмар.
Пришлось вмешаться королю.
Эта ошибка произошла потому, что принцесса неожиданно приказала фрейлинам поменяться комнатами, и Лавальер с Монтале должны были теперь ночевать в кабинете своей госпожи.
Даже переписка стала невозможной: писать под наблюдением такого сурового Аргуса, как принцесса, значило подвергаться величайшей опасности.
Можно себе представить, в какое раздражение и гнев приводили льва все эти булавочные уколы. Король портил себе кровь, изыскивал средства, и поскольку он не поверял своих сердечных тайн ни Маликорну, ни д’Артаньяну, то этих средств так и не находилось.
Напрасно Маликорн время от времени предпринимал героические попытки вызвать короля на признание. Король начинал было клевать, но от стыда или от недоверия выпускал крючок.
Так, например, однажды вечером он шел через сад, грустно поглядывая на окна принцессы. Маликорн, следовавший за королем вместе с Маниканом, споткнулся о лестницу, лежавшую в кустах, и сказал своему спутнику:
— Разве вы не заметили, как я только что споткнулся о лестницу и чуть не упал?
— Нет, — отвечал рассеянный по обыкновению Маникан, — но, кажется, вы не упали?
— Простая случайность. Нельзя так бросать лестницу.
— Да, легко можно сломать себе шею, особенно человеку рассеянному.
— Я не об этом, я хотел сказать, что опасно так оставлять лестницу под окнами фрейлин.
Людовик чуть заметно вздрогнул.
— Почему? — поинтересовался Маникан.
— Говорите громче, — шепнул ему Маликорн, подталкивая в бок.
— Почему? — повторил Маникан, повысив голос.
Король насторожился.
— Вот, например, — рассуждал Маликорн, — лестница в девятнадцать футов, как раз до окон верхнего этажа.
Вместо ответа Маникан погрузился в размышления.
— Спросите же, каких окон, — подсказал ему Маликорн.
— О каких окнах вы говорите? — громко спросил Маникан.
— Об окнах принцессы.
— А-а-а!
— Я не думаю, конечно, что кто-нибудь решится забраться к принцессе; но в кабинете принцессы, за перегородкой, спят Лавальер и Монтале, две хорошенькие девушки.
— За тонкой перегородкой? — уточнил Маникан.
— Видите два ярко освещенных окна в комнатах принцессы?
— Да.
— А следующее окно, освещенное не так ярко?
— Отлично вижу.
— Это окно фрейлин. Жарко; смотрите, мадемуазель де Лавальер выглянула в сад. Ах, предприимчивый влюбленный мог бы многое сообщить ей, если бы знал, что эта лестница доходит до окна!
— Но вы ведь сказали, что она не одна, что с ней мадемуазель де Монтале.
— Мадемуазель де Монтале не в счет; это подруга детства, беззаветно преданная, настоящий колодец, куда можно бросать всякую тайну, которая не должна быть разглашена.
Король не упустил ни одного слова из этого диалога. Маликорн заметил даже, что король замедлил шаги, чтобы дать ему время договорить. Дойдя до двери, он отпустил всех, кроме Маликорна. Никто не удивился; известно было, что король влюблен, предполагали, что он собирается писать стихи при луне. Хотя луны в тот вечер не было, у короля все же могло явиться желание сочинять стихи.
Все разошлись.
Тогда король обратился к Маликорну, почтительно ожидавшему, когда Людовик заговорит с ним.
— Что вы там болтали о лестнице, господин Маликорн? — спросил он.
— О лестнице, государь?
И Маликорн поднял глаза к небу, как бы желая поймать улетевшие слова.
— Да, о лестнице в девятнадцать футов.
— Ах да, государь, вспомнил! Я рта не раскрыл бы, если бы знал, что ваше величество можете услышать мой разговор с господином Маниканом.
— Почему не раскрыли бы рта?
— Потому что я не хотел бы навлечь выговор на бедного садовника, забывшего убрать ее.
— Не беспокойтесь… Что же это за лестница?
— Ваше величество желает ее видеть?
— Да.
— Ничего не может быть легче, она вот там, государь.
— В кустах?
— Да, в кустах.
— Покажите мне ее.
Маликорн подвел короля к лестнице:
— Вот она, государь.
— Вытащите ее оттуда.
Маликорн положил лестницу на дорожку. Король измерил ее длину шагами.
— Гм!.. Вы говорите, что в ней девятнадцать футов?
— Да, государь.
— Мне кажется, что вы ошибаетесь; она короче.
— Когда она лежит, трудно судить, государь. Приставим ее к дереву или к стене, тогда, при помощи сравнения, будет легче определить длину.
— Все равно, господин Маликорн, я не поверю, чтобы в этой лестнице было девятнадцать футов.
— Я знаю, что у вашего величества глазомер превосходен, и все же держал бы пари, что не ошибаюсь.
Король покачал головой.
— Есть отличный способ проверить мои слова, — сказал Маликорн.
— Какой?
— Всем известно, государь, что нижний этаж дворца восемнадцать футов высоты.
— Да, как будто восемнадцать.
— Итак, приставив лестницу к стене, мы можем определить ее длину.
— Да, это верно.
Маликорн поднял лестницу, как перышко, и приставил к стене.
Случайно вышло так, что лестница оказалась под окном комнаты Лавальер. Верхним своим концом она уперлась прямо в карниз, так что, стоя на предпоследней ступеньке, человек среднего роста, например король, мог бы легко переговариваться с обитателями или, вернее, с обитательницами комнаты.
Едва лестница легла на карниз, как король без дальних слов начал подниматься по ступенькам. Но не успел он проделать половины своего воздушного пути, как в саду показался патруль швейцарцев и двинулся прямо к молодым людям. Король моментально спустился и скрылся в кустах.
Маликорн понял, что ему нужно принести себя в жертву. Если бы он последовал примеру короля, патруль стал бы искать и в конце концов нашел бы его или короля, а может быть, обоих. Было бы лучше, если бы нашли только его. Поэтому Маликорн спрятался так неискусно, что его тотчас же схватили. Арестовав Маликорна, патруль отвел его на пост; там он назвал себя, его узнали и отпустили.
Тем временем, перебегая от куста к кусту, король добрался до черного хода своих апартаментов, посрамленный и разочарованный.
Шум голосов привлек к окнам Монтале и Лавальер; подошла сама принцесса и стала спрашивать, что случилось.
Маликорн потребовал д’Артаньяна. Д’Артаньян мигом прибежал на его зов. Напрасны были объяснения Маликорна, напрасно д’Артаньян принял их во внимание; напрасно эти умные и изобретательные люди придали приключению невинный смысл: Маликорн заявил, что хотел проникнуть к мадемуазель де Монтале, как несколько дней тому назад г-н де Сент-Эньян пытался ворваться в комнату мадемуазель де Тонне-Шарант.
Принцесса была непреклонна: если Маликорн действительно намеревался проникнуть по лестнице ночью в ее комнаты, чтобы повидать Монтале, то за это покушение его следует примерно наказать. Если же Маликорн действовал не по собственному почину, а как посредник между Лавальер и лицом, которое она не хотела называть, то его преступление было еще более тяжким, потому что оправданием ему не могла бы служить даже все извиняющая страсть.
Словом, принцесса пришла в крайнее негодование и добилась увольнения Маликорна из штатов принца; в своем ослеплении она не приняла в расчет, что Маликорн и Монтале держат ее в руках благодаря ее ночному визиту к г-ну Гишу и многим другим столь же щекотливым вещам.
Взбешенная Монтале хотела тотчас же отомстить, но Маликорн убедил ее, что поддержка короля искупает все опалы в мире и пострадать за короля прекрасно. Маликорн был прав. Поэтому, хотя Монтале была женщина, он сумел убедить ее.
Поспешим прибавить, что и король очень помог им утешиться. Прежде всего он наградил Маликорна пятьюдесятью тысячами ливров за потерю места. Затем он принял его к себе на службу, очень довольный, что может отомстить таким образом принцессе за все невзгоды, которым подвергались из-за нее он сам и Лавальер. Но Маликорн не мог больше воровать у него платков и измерять для него длину лестниц, и бедный влюбленный чувствовал себя беспомощным.
Не было никакой надежды на свидание с Лавальер, пока она оставалась в Пале-Рояле. Никакие деньги, никакие награды не могли тут помочь. К счастью, Маликорн не дремал. Ему удалось устроить свидание с Монтале. Правда, и Монтале сделала все возможное, чтобы добиться этого свидания.
— Что вы делаете ночью у принцессы? — спросил он фрейлину.
— Сплю, — отвечала она.
— Неужели спите?
— Конечно.
— Как это нехорошо! Ужасно, когда девушка спит с таким горем на сердце, как у вас!
— У меня горе?
— Разве вы не в отчаянии от разлуки со мной?
— Нисколько. Ведь вы получили пятьдесят тысяч ливров и место у короля.
— Все равно, вы страшно огорчены тем, что не можете видеться со мной, как раньше; и вы, наверное, в отчаянии от того, что я потерял доверие принцессы.
— О да, это правда!
— Ну, так это горе мешает вам спать по ночам, и вы ежеминутно рыдаете, вздыхаете и громко сморкаетесь.
— Но, милый Маликорн, принцесса не выносит ни малейшего шума.
— Я отлично знаю, что не выносит! Поэтому-то, видя ваше неутешное горе, она и постарается поскорее спровадить вас.
— Понимаю.
— Этого-то нам и надо.
— Но что же тогда будет?
— Будет то, что разлученная с вами Лавальер начнет так стонать и так жаловаться по ночам, что выведет из себя принцессу.
— Тогда ее переселят в другую комнату.
— Да, но в какую?
— В какую? Вот вы и сбиты с толку, изобретательный юноша.
— Ничуть! Любая комната будет лучше, чем комната принцессы.
— Вы правы.
— Так начните сегодня же ночью свои иеремиады.
— Будьте покойны.
— И передайте Лавальер то, что я вам сказал.
— Не бойтесь, она и без того достаточно плачет потихоньку.
— Так пусть плачет громко.
И они расстались.
XL. Где говорится о столярном искусстве и приводятся некоторые подробности об устройстве лестниц
Совет Маликорна был передан Лавальер, которая нашла его неблагоразумным, но после некоторого сопротивления, скорее вызванного робостью, нежели холодностью, согласилась последовать ему.
Эта затея — плач и жалобы двух женщин в спальне принцессы — была гениальным изобретением Маликорна. Так как правдивее всего неправдоподобное, естественнее всего невероятное, то эта сказка из «Тысячи и одной ночи» привела как раз к тем результатам, которых ожидал Маликорн. Принцесса сперва удалила Монтале. А через три дня, или, вернее, через три ночи, изгнала также и Лавальер. Ее перевели в комнатку на мансарде, помещавшуюся над комнатами придворных.
Только один этаж, то есть пол, отделял фрейлин от придворных офицеров.
В комнаты фрейлин вела особая лестница, находившаяся под надзором г-жи де Навайль. Госпожа де Навайль слышала о прежних покушениях его величества, поэтому, для большей надежности, велела вставить решетки в окна и в отверстия каминов. Таким образом, честь мадемуазель де Лавальер была ограждена как нельзя лучше, и ее комната стала очень похожей на клетку.
Когда мадемуазель де Лавальер была у себя — а она почти всегда сидела дома, так как принцесса редко пользовалась ее услугами с тех пор, как она поступила под наблюдение г-жи де Навайль, — у нее оставалось только одно развлечение: смотреть через решетку в сад. И вот, сидя таким образом у окна, она заметила однажды Маликорна в комнате напротив.
Держа в руке отвес, он рассматривал постройки и заносил на бумагу какие-то формулы. Он был очень похож на инженера, который измеряет из окопов углы бастиона или высоту крепостных стен. Лавальер узнала Маликорна и кивнула ему. Маликорн, в свою очередь, ответил низким поклоном и скрылся.
Лавальер была удивлена его холодностью, столь несвойственной характеру Маликорна. Но она вспомнила, что бедный молодой человек из-за нее потерял место и не мог, следовательно, хорошо относиться к ней, особенно если принять во внимание, что она навряд ли могла вернуть ему положение, которого он лишился.
Лавальер умела прощать обиды, а тем более сочувствовать несчастью. Она попросила бы совета у Монтале, если бы ее подруга была с ней, но Монтале не было. В тот час Монтале писала письма.
Вдруг Лавальер увидела какой-то предмет, брошенный из окна, в котором только что был виден Маликорн; предмет этот перелетел через двор, попал между прутьев решетки и покатился по полу. Она с любопытством нагнулась и подняла его. Это была катушка, на которую наматывается шелк; только вместо шелка на ней была бумажка. Лавальер расправила ее и прочла:
«Мадемуазель!
Мне очень хочется узнать две вещи.
Во-первых, какой пол в вашей комнате: деревянный или же кирпичный?
Во-вторых, на каком расстоянии от окна стоит ваша кровать?
Извините за беспокойство и пришлите, пожалуйста, ответ тем же способом, каким вы получили мое письмо. Но вам будет трудно бросить катушку в мою комнату, поэтому просто уроните ее на землю.
Главное же, прошу вас, мадемуазель, считать меня вашим преданнейшим слугой».
«Ответ благоволите написать на этом самом письме».
— Бедняга, — воскликнула Лавальер, — должно быть, он сошел с ума!
И она участливо посмотрела в сторону своего корреспондента, видневшегося в полумраке противоположной комнаты.
Маликорн понял и покачал головой, как бы отвечая: «Нет, нет, я в здравом уме, успокойтесь».
Она недоверчиво улыбнулась.
«Нет, нет, — повторил он жестами. — Голова в порядке». — И постукал по голове. Потом он жестами и мимикой стал увещевать ее: «Пишите скорее».
Лавальер не видела препятствий для исполнения просьбы Маликорна, даже если бы он был сумасшедшим. Она взяла карандаш и написала: «Деревянный». Затем измерила шагами расстояние между окном и кроватью и снова написала: «Десять шагов».
Сделав это, она посмотрела на Маликорна, который ей поклонился и подал знак, что сейчас спустится во двор.
Лавальер поняла, что он пошел за катушкой. Она подошла к окну и, соответственно его наставлениям, уронила катушку. Едва катушка коснулась земли, как Маликорн схватил ее и побежал в комнаты г-на де Сент-Эньяна.
Де Сент-Эньян выбрал или, вернее, выпросил себе жилье как можно ближе к покоям короля; он был похож на те растения, которые тянутся к лучам солнца, чтобы развернуться во всей красе и принести плоды. Его две комнаты были расположены в том же корпусе дворца, где жил Людовик XIV.
Господин де Сент-Эньян гордился этим соседством, которое давало ему легкий доступ к его величеству, а кроме того, повышало шансы на случайные встречи с королем. В это время он роскошно обставлял свои комнаты в надежде, что король удостоит его своим посещением. Дело в том, что его величество, воспылав страстью к Лавальер, избрал де Сент-Эньяна поверенным своих тайн и не мог обходиться без него ни днем, ни ночью.
Маликорн был принят графом беспрепятственно, так как был на хорошем счету у короля. Де Сент-Эньян спросил посетителя, нет ли у него какой-нибудь новости.
— Есть, и очень интересная, — отвечал Маликорн.
— Какая же? — перебил де Сент-Эньян, любопытный, как все фавориты. — Что же это за новость?
— Мадемуазель де Лавальер переведена в другое помещение.
— Как так? — воскликнул де Сент-Эньян, вытаращив глаза.
— Да.
— Ведь она жила у принцессы?
— Вот именно. Но принцессе надоело ее соседство, и она поместила ее в комнате, которая находится как раз над вашей будущей квартирой.
— Почему над моей квартирой? — вскричал де Сент-Эньян, показывая пальцем на верхний этаж.
— Нет, — отвечал Маликорн, — не здесь, а там. И показал на корпус, расположенный напротив.
— Почему же вы говорите, что ее комната расположена над моей квартирой?
— Потому что я убежден, что ваша квартира должна быть под комнатой Лавальер.
При этих словах де Сент-Эньян бросил на бедного Маликорна такой же взгляд, какой бросила на него Лавальер четверть часа назад. Другими словами, он счел его помешанным.
— Сударь, — начал Маликорн, — разрешите мне ответить на вашу мысль.
— Как на мою мысль?..
— Ну да. Мне кажется, вы не совсем поняли, что я вам хочу сказать.
— Не понял.
— Вам, конечно, известно, что этажом ниже фрейлин принцессы живут придворные короля и принца.
— Да, там живут Маникан, де Вард и другие.
— И представьте, сударь, какое странное совпадение: две комнаты, отведенные для господина де Гиша, расположены как раз под комнатами мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Монтале.
— Ну так что же?
— А то, что эти комнаты свободны, потому что раненый де Гиш лежит в Фонтенбло.
— Ей-богу, ничего не понимаю!
— О, если бы я имел счастье называться де Сент-Эньяном, я бы моментально понял!
— И что бы вы сделали?
— Я тотчас же поменял бы комнаты, которые вы занимаете здесь, на свободные комнаты господина де Гиша.
— Что за фантазия! — с негодованием сказал де Сент-Эньян. — Отказаться от соседства с королем, от этой привилегии, которой пользуются только принцы крови, герцоги и пэры?.. Дорогой де Маликорн, позвольте мне заявить вам, что вы сошли с ума.
— Сударь, — с серьезным видом заметил молодой человек, — вы делаете две ошибки… Во-первых, я называюсь просто Маликорн, а во-вторых, я в здравом уме.
И, вынув из кармана бумажку, прибавил:
— Вот послушайте, а потом прочтите эту записку.
— Слушаю, — отвечал де Сент-Эньян.
— Вы знаете, что принцесса стережет Лавальер, как Аргус нимфу Ио.
— Знаю.
— Вы знаете также, что король тщетно пытался поговорить с пленницей, но ни вам, ни мне не удалось доставить ему этого счастья.
— Да, вы могли бы сообщить на этот счет кой-какие подробности, бедняга Маликорн.
— А как вам кажется, чего мог бы ожидать тот, кто придумал бы способ соединить любящие сердца?
— О, король осыпал бы его своими щедротами.
— Господин де Сент-Эньян…
— Ну?
— Разве вам не хочется отведать королевской благодарности?
— Понятно, — отвечал де Сент-Эньян, — благодарность моего повелителя за умелое исполнение обязанностей будет для меня крайне драгоценна.
— Так взгляните на эту бумажку, граф.
— Что это такое? План?
— План комнат господина де Гиша, которые, по всей вероятности, станут вашими комнатами.
— О нет, никогда!
— Почему?
— Потому что мои две комнаты составляют предмет вожделений многих придворных, которым я их, конечно, не уступлю: на них покушаются господин де Роклор, господин де Ла Ферте, господин Данжо.
— В таком случае прощайте, граф. Я предложу одному из этих господ мой план и разъясню связанные с ним выгоды.
— Почему же вы сами не займете этих комнат? — недоверчиво спросил де Сент-Эньян.
— Потому что король никогда не удостоит меня своим посещением, а к этим господам пойдет без всяких колебаний.
— Как, король пойдет к этим господам?
— Пойдет ли? Десять раз, а не один! Вы меня спрашиваете, будет ли король посещать квартиру, которая расположена в таком близком соседстве с комнатой мадемуазель де Лавальер?
— Хорошее соседство… в разных этажах.
Маликорн развернул бумажку, намотанную на катушку.
— Обратите, пожалуйста, внимание, граф, — сказал он, — что пол в комнате мадемуазель де Лавальер — простой деревянный паркет.
— Ну так что же?
— А то, что вы позовете плотника, его приведут к вам с завязанными глазами, запрут, и он сделает отверстие в вашем потолке, следовательно, в полу комнаты мадемуазель де Лавальер.
— Ах боже мой! — вскричал де Сент-Эньян, точно вдруг прозревший. — Вот гениальная мысль!
— Она покажется королю самой заурядной, уверяю вас.
— Влюбленные не думают об опасности.
— Какой опасности боитесь вы, граф?
— Ведь это страшно шумная работа, по всему дворцу будет слышно.
— Ручаюсь вам, граф, что присланный мной плотник будет работать без всякого шума. Он выпилит особой пилой четырехугольник в шесть футов, и даже ближайшие соседи ничего не услышат.
— Ах, дорогой Маликорн, у меня голова идет кругом!
— Я продолжаю, — спокойно отвечал Маликорн, — в комнате с пробитым потолком… Вы внимательно слушаете?
— Да.
— Вы поставите лестницу, по которой либо мадемуазель де Лавальер будет спускаться к вам, либо король будет подниматься к мадемуазель де Лавальер.
— Но ведь эту лестницу увидят.
— Нет. Вы закроете ее перегородкой, которую оклеите такими же обоями, как и другие стены комнаты; у мадемуазель де Лавальер она будет замаскирована люком, составляющим часть паркета и открывающимся под кроватью.
— А ведь правда… — сказал де Сент-Эньян, глаза которого загорелись.
— Теперь, граф, мне не нужно объяснять вам, почему король будет часто заходить в комнату, в которой устроят такую лестницу. Я думаю, что господин Данжо оценит по достоинству мою мысль, которую я сейчас разовью ему.
— Ах, дорогой Маликорн, — воскликнул де Сент-Эньян, — вы забываете, что мне первому вы открыли ее и, следовательно, мне принадлежит право первенства.
— Значит, вы хотите, чтобы вам было оказано предпочтение?
— Хочу ли? Еще бы!
— Дело в том, господин де Сент-Эньян, что при первой раздаче наград я обеспечиваю вам таким образом орденскую ленту, а может быть, даже недурное герцогство.
— Во всяком случае, — отвечал де Сент-Эньян, покраснев от удовольствия, — это послужит удобным поводом доказать королю, что не напрасно он называет меня иногда своим другом, и этим поводом, мой дорогой Маликорн, я буду обязан вам.
— Вы не окажетесь забывчивым? — с улыбкой спросил Маликорн.
— Как можно забывать такие вещи, сударь!
— Я, граф, не имею чести быть другом короля, я просто его слуга.
— Да, если вы полагаете, что на этой лестнице я найду голубую ленту, то я думаю, что и для вас на ней будет грамота на дворянство.
Маликорн поклонился.
— Теперь остается только заняться переселением, — проговорил де Сент-Эньян.
— Не думаю, чтобы король стал противиться. Попросите у него позволения.
— Сию минуту бегу к нему.
— А я иду за плотником.
— Когда он будет у меня?
— Сегодня вечером.
— Не забудьте о предосторожностях.
— Я приведу его с завязанными глазами.
— А я предоставлю вам одну из своих карет.
— Без гербов.
— И одного лакея. Понятно, не в ливрее.
— Отлично, граф.
— А Лавальер?
— Что вас беспокоит?
— Что она скажет, увидя нашу работу?
— Уверяю вас, это доставит ей большое развлечение.
— Еще бы!
— Я уверен даже, что если у короля не хватит смелости подняться к ней, то она окажется настолько любопытной, что сама спустится к вам.
— Будем надеяться, — сказал де Сент-Эньян.
— Да, будем надеяться, — повторил Маликорн.
— Итак, я иду к королю.
— И правильно делаете.
— В котором часу придет плотник?
— В восемь часов.
— А как вы думаете, сколько времени отнимет у него работа?
— Часа два, но ему понадобится время на окончательную отделку. Ночь и часть следующего дня; словом, на всю работу, вместе с установкой лестницы, уйдет два дня.
— Два дня? Это долго.
— Чего же вы хотите! Когда берешься открывать двери рая, им следует придать приличный вид.
— Вы правы. До скорого свидания, дорогой Маликорн. Послезавтра вечером я буду уже на новой квартире.
XLI. Прогулка с факелами
Восхищенный только что услышанным и очарованный открывающимися перспективами, де Сент-Эньян направился к квартире де Гиша. Четверть часа тому назад граф не уступил бы своего помещения за миллион, теперь же, если бы потребовалось, он готов был купить за миллион эти вожделенные комнаты.
Но ему не было предъявлено таких требований. Г-н де Гиш не знал еще, где ему отвели помещение и, кроме того, был так болен, что ему было не до переселения.
Поэтому де Сент-Эньян без труда получил комнаты де Гиша, а свои переуступил г-ну Данжо, который вручил управляющему графа куш в шесть тысяч ливров и считал, что заключил очень выгодную сделку. Комнаты Данжо остались за де Гишем. Но трудно было поручиться, что после всех этих перемещений де Гиш действительно будет жить в них. Что же касается г-на Данжо, то он был в таком восторге, что ему не пришло даже в голову заподозрить де Сент-Эньяна в преследовании каких-либо корыстных целей.
Через час после принятия решения де Сент-Эньян уже был хозяином новых комнат. А через десять минут после того, как он стал хозяином, Маликорн входил к нему с обойщиком.
В это время король не раз требовал де Сент-Эньяна, но в квартире де Сент-Эньяна посланные находили Данжо, который направлял их в комнаты де Гиша. От этого произошла задержка, так что король уже выразил неудовольствие, когда де Сент-Эньян вошел к своему повелителю, весь запыхавшись.
— Значит, и ты покидаешь меня, — сказал Людовик XIV тем жалостным тоном, каким произнес, должно быть, Цезарь за восемнадцать веков перед этим: «И ты, Брут!»
— Государь, — проговорил де Сент-Эньян, — я не покидаю короля, но я занят сейчас переселением.
— Каким переселением? Я думал, что ты перебрался уже три дня назад.
— Да, государь. Но здесь мне неудобно, и я переезжаю в здание напротив.
— Значит, я был прав, ты тоже бросаешь меня! — вскричал король. — Но это переходит всякие границы! Стоило мне только увлечься женщиной, и вся моя семья сплотилась, чтобы вырвать ее у меня. У меня был друг, которому я поверял мои печали и который помогал мне переносить их, — и вот этот друг устал от моих жалоб и покидает меня, даже не подумав спросить у меня позволения!
Де Сент-Эньян рассмеялся.
Король догадался, что за этой непочтительностью скрывается какая-то тайна.
— В чем дело? — с надеждой спросил король.
— Государь, друг, на которого король клевещет, хочет попытаться вернуть своему королю утраченное счастье.
— Ты дашь мне возможность видеть Лавальер? — с живостью проговорил Людовик XIV.
— Государь, я еще не могу сказать наверное, но…
— Но?..
— Но я надеюсь.
— Каким образом? Как? Скажи мне, де Сент-Эньян. Я хочу знать твой план. Я хочу помочь тебе всей своей властью.
— Государь, — отвечал де Сент-Эньян, — я еще и сам хорошенько не знаю, как я буду действовать, но имею основания думать, что завтра…
— Завтра, говоришь ты?
— Да, государь.
— Какое счастье! Но почему ты переезжаешь?
— Чтобы лучше послужить вашему величеству.
— Каким же образом, переехав, ты сможешь лучше служить мне?
— Знаете ли вы, где помещаются комнаты, отведенные для графа де Гиша?
— Да.
— В таком случае вам известно, куда я переселяюсь.
— Известно; но все же я ровно ничего не понимаю.
— Как, государь! Вы не знаете, что над этим помещением расположены две комнаты?
— Какие?
— В одной живет де Монтале, а в другой…
— А в другой де Лавальер, не правда ли, де Сент-Эньян?
— Вот именно, государь.
— Теперь я понял, понял! Это счастливая мысль, де Сент-Эньян. Мысль друга, мысль поэта; приближая меня к ней, когда весь мир меня с ней разлучает, ты делаешь для меня больше, чем Пилад для Ореста, чем Патрокл для Ахилла.
— Государь, — с улыбкой сказал де Сент-Эньян, — сомневаюсь, чтобы, выслушав мой план до конца, ваше величество продолжали награждать меня такими пышными сравнениями. Ах, государь, я уверен, что многие придворные пуритане, не задумываясь, выскажутся по моему адресу далеко не столь лестно, когда узнают, что я собираюсь сделать для вашего величества.
— Де Сент-Эньян, я умираю от нетерпения; де Сент-Эньян, я томлюсь; де Сент-Эньян, я не выдержу до завтра… Завтра! Ведь до завтра — целая вечность.
— Государь, если вам угодно, развлекитесь прогулкой.
— С тобой, пожалуй; мы поговорим о твоих планах, поговорим о ней.
— Нет, государь, я остаюсь.
— С кем же я поеду?
— С дамами.
— Нет, ни в каком случае!
— Государь, так нужно.
— Нет, нет! Тысячу раз нет! Нет, я не хочу этих страданий: быть в двух шагах от нее, видеть ее, касаться ее платья и не говорить с ней ни слова. Нет, я отказываюсь от этой пытки, которую ты считаешь счастьем, но которая на самом деле является мучением, сжигающим мне глаза и разбивающим сердце; видеть ее в присутствии посторонних и не иметь возможности сказать, что я ее люблю, когда все мое существо дышит любовью и выдает эту любовь перед всеми. Нет, я дал себе клятву никогда больше этого не делать, и я сдержу свое слово.
— Выслушайте меня, государь.
— Ничего не хочу слушать, де Сент-Эньян.
— В таком случае продолжаю. Необходимо, государь, — поймите, совершенно необходимо, чтобы принцесса и фрейлины отлучились на два часа из дворца.
— Ты ставишь меня в тупик, де Сент-Эньян.
— Мне тяжело приказывать моему королю, но в данных обстоятельствах я приказываю, государь. Мне нужно, чтобы состоялась охота или прогулка.
— Но такая прогулка или охота покажутся всем странной причудой! Проявляя подобное нетерпение, я покажу всему двору, что мое сердце больше не принадлежит мне. Ведь и теперь уже говорят, что я мечтаю покорить весь мир, но прежде мне следовало бы покорить самого себя!
— Люди, говорящие так, государь, дерзкие крамольники. Но кто бы они ни были, я не произнесу больше ни слова, если ваше величество предпочитаете прислушиваться к их мнению. Тогда завтрашний день отдалится на неопределенное время.
— Де Сент-Эньян, я поеду сегодня вечером… Я поеду ночевать в Сен-Жермен с факелами; завтра я там позавтракаю и вернусь в Париж к трем часам. Это тебя устраивает?
— Вполне.
— Так я еду сегодня в восемь часов.
— Ваше величество угадали минута в минуту.
— И ты мне ничего не хочешь сказать?
— Не не хочу, а не могу. Изобретательность — великая вещь, государь; но случай играет в мире столь большую роль, что обыкновенно я стараюсь отвести ему как можно меньше места, в уверенности, что и без моей помощи он позаботится о себе.
— Хорошо, я доверяюсь тебе.
— И поступаете очень разумно.
Ободренный таким образом, король пошел прямо к принцессе и объявил ей о предполагаемой поездке.
Принцесса тотчас же усмотрела в этой импровизации замысел короля поговорить с Лавальер или по дороге под прикрытием темноты, или где-нибудь в другом месте; но она не обмолвилась ни словом о своих подозрениях и с улыбкой приняла приглашение. Она громко приказала фрейлинам собираться, решив сделать вечером все возможное, чтобы помешать любовным интригам его величества.
Когда бедный влюбленный, отдавший это приказание, ушел, думая, что мадемуазель де Лавальер будет участвовать в поездке, принцесса, оставшись одна, немедленно распорядилась:
— Сегодня мне достаточно будет двух фрейлин: мадемуазель де Тонне-Шарант и мадемуазель Монтале.
Лавальер предвидела удар и приготовилась к нему; преследования закалили ее характер. Она не доставила принцессе удовольствия увидеть на своем лице печаль и растерянность.
Напротив, с самой ангельской улыбкой она сказала:
— Значит, принцесса, я сегодня свободна?
— Да, конечно.
— Я воспользуюсь этим, чтобы заняться вышивкой, на которую ваше высочество изволили обратить внимание и которую я имела честь заранее подарить вашему высочеству.
И, сделав почтительный реверанс, Лавальер удалилась. Вслед за ней ушли де Монтале и де Тонне-Шарант.
Слух о прогулке немедленно распространился по всему дворцу. Через десять минут Маликорн уже знал решение принцессы; тотчас же он сунул Монтале под дверь записку, в которой содержалось следующее:
«Нужно, чтобы Л. провела ночь в комнате принцессы».
Согласно уговору, Монтале прежде всего сожгла бумажку, затем задумалась. Она была очень изобретательна и скоро составила план.
Когда настало время отправиться к принцессе, то есть в пять часов, она пустилась бегом через лужайку, но в десяти шагах от группы офицеров вдруг вскрикнула, грациозно упала на колено, поднялась и пошла дальше, прихрамывая. Молодые люди подбежали, чтобы поддержать ее. Монтале вывихнула ногу. Тем не менее верная своему долгу, она решила продолжать путь к принцессе.
— Что с вами? Почему вы хромаете? — спросила ее принцесса. — Я вас приняла за Лавальер.
Монтале рассказала, как из-за своего усердия она повредила ногу. Принцесса выразила сожаление и хотела немедленно послать за хирургом. Но Монтале стала уверять, что ее вывих не серьезен.
— Ваше высочество, меня огорчает лишь, что я не могу исполнять сегодня своих обязанностей. Я очень хотела попросить мадемуазель де Лавальер заменить меня подле вашего высочества.
Принцесса нахмурила брови.
— Но я не попросила, — продолжала Монтале.
— Почему? — спросила принцесса.
— Бедняжка Лавальер, по-видимому, очень обрадовалась, что всю ночь и весь вечер она будет свободна. У меня не хватило мужества предложить ей заменить меня.
— Как?! Она обрадовалась? — спросила принцесса, пораженная словами Монтале.
— Безумно обрадовалась: у нее прошла вся грусть, и она даже запела. Ведь вашему высочеству известно, что Лавальер ненавидит свет и что в ней осталось что-то дикое.
«Нет, — подумала принцесса — эта веселость мне кажется ненатуральной!»
— Она уже все приготовила в своей комнате, — продолжала Монтале, — чтобы пообедать и насладиться одной из своих любимых книг. У вашего высочества есть еще шесть фрейлин, каждая из которых сочтет счастьем сопровождать ваше высочество. Поэтому я не обратилась с просьбой к мадемуазель де Лавальер.
Принцесса промолчала.
— Согласитесь, что я была права? — продолжала Монтале, несколько обескураженная малым успехом этой военной хитрости, на которую она так рассчитывала, что не заготовила ничего про запас. — Принцесса одобряет меня?
У принцессы мелькнула мысль, что ночью король может покинуть Сен-Жермен, и так как от Парижа до Сен-Жермена было всего четыре с половиною лье, то в течение какого-нибудь часа он вернется в Париж.
— Но Лавальер по крайней мере предложила вам свои услуги, узнав о вашем ушибе?
— Она еще не знает о моем несчастье, но если даже она и узнает, я не буду просить у нее ничего, что могло бы расстроить ее планы. Мне кажется, сегодня вечером она хочет доставить себе развлечение по рецепту покойного короля, который говаривал господину де Сен-Мару: «Поскучаем, господин де Сен-Map, хорошенько поскучаем».
Принцесса была убеждена, что под жаждой одиночества Лавальер скрывается какая-то любовная тайна, скорее всего ночное возвращение Людовика. Не осталось больше никаких сомнений: Лавальер была предупреждена об этом возвращении, отсюда ее радость. Конечно, весь план был составлен заранее.
«Я не позволю им дурачить себя», — сказала себе принцесса.
И приняла решение.
— Мадемуазель де Монтале, — проговорила она, — благоволите передать вашей подруге, мадемуазель де Лавальер, что я в отчаянии от мысли, что мне приходится расстраивать ее планы; но вместо того, чтобы скучать в одиночестве, как ей хотелось, она отправится в Сен-Жермен скучать вместе с нами.
— Бедная Лавальер! — сказала Монтале с печальным видом, но с радостью в сердце. — А разве ваше высочество не может…
— Довольно, — остановила принцесса, — я так хочу. Я предпочитаю общество мадемуазель Лавальер обществу всех других фрейлин. Ступайте, пришлите ее мне и полечите вашу ногу.
Монтале не заставила принцессу повторять приказание. Она вернулась, написала ответ Маликорну и сунула его под ковер. Записка состояла из одного только слова: «Поедет». Даже спартанка не могла бы написать лаконичнее.
«По дороге я буду наблюдать за нею, — думала принцесса. — Ночью она ляжет в моей комнате. Очень уж ловок будет король, если ему удастся обменяться хотя бы одним словом с мадемуазель де Лавальер».
Лавальер с той же кроткой покорностью выслушала распоряжение ехать, с какой приняла приказание остаться. Но в душе она очень обрадовалась и посмотрела на перемену решения принцессы как на утешение, посланное ей свыше. Менее проницательная, чем Монтале, она все приписывала случаю.
Когда все придворные, за исключением опальных, больных и вывихнувших ноги, направились в Сен-Жермен, Маликорн привез своего плотника в карете г-на де Сент-Эньяна и ввел его в комнату, расположенную под комнатой Лавальер. Плотник тотчас же принялся за работу, соблазнившись обещанной ему щедрой платой.
У придворных механиков были взяты самые лучшие инструменты, между прочим, пила с такими сокрушительными зубьями, что они резали в воде твердые, как железо, дубовые бревна. Поэтому работа шла быстро, и четырехугольный кусок потолка, выбранный между двумя балками, скоро упал, подхваченный де Сент-Эньяном, Маликорном, плотником и одним доверенным лакеем, который родился на свет, чтобы все видеть, все слышать и ничего не говорить.
Согласно вновь составленному Маликорном плану отверстие было сделано в углу. И вот почему. Так как в комнате Лавальер не было туалетной, то Луиза в это самое утро попросила большие ширмы, которые заменяли бы перегородку, и ее желание было исполнено. Ширмы отлично закрывали отверстие в полу, которое к тому же было искусно замаскировано плотником.
Когда дыра была проделана, плотник забрался в комнату Лавальер и смастерил из кусочков паркета люк, которого не мог бы заметить даже самый опытный взгляд.
Маликорн все предусмотрел. К люку были приделаны ручка и два шарнира. Заботливый Маликорн купил также за две тысячи ливров небольшую винтовую лестницу. Лестница оказалась длиннее, чем было нужно, но плотник отпилил в ней несколько ступенек, и она пришлась как раз впору. Несмотря на то, что этой лестнице предстояло держать царственный груз, она была прикреплена к стене только двумя болтами. Точно так же она была прикреплена к полу.
Молотки били по подушечкам; зубья пилы были обильно смазаны, а рукоятка завернута в куски шерстяной материи. Кроме того, самая шумная часть работы была произведена ночью и рано утром, то есть во время отсутствия Лавальер и принцессы. Когда около двух часов дня двор вернулся в Пале-Рояль и Лавальер поднялась в свою комнату, все было на месте; ни одна щепочка, ни одна соринка не уличали заговорщиков.
Один де Сент-Эньян так усердствовал, что поранил себе пальцы, изорвал рубашку и пролил много пота во славу своего короля. Его ладони покрылись волдырями: он все время поддерживал лестницу во время работы. Кроме того, он собственноручно принес одну за другой пять отдельных частей лестницы, каждую из двух ступенек. Словом, если бы король мог видеть пыл графа, он навеки остался бы ему благодарен.
Как и предвидел Маликорн, отличавшийся большой точностью, плотник закончил свою работу в двадцать четыре часа. Он получил восемьдесят луидоров и был в восторге; такие деньги он обыкновенно зарабатывал в полгода.
Никто и не догадался о том, что произошло в комнате мадемуазель де Лавальер. Но на другой день вечером, когда Лавальер только что вернулась к себе, она услышала в углу шорох. Она с изумлением посмотрела на то место, откуда доносился звук. Шорох повторился.
— Кто там? — спросила она с испугом.
— Я! — отвечал знакомый голос короля.
— Вы!.. Вы!.. — вскричала Луиза, вообразившая, что она видит сон. — Но где вы?.. Где вы, государь?
— Здесь, — отвечал король, отодвигая ширмы и являясь, как призрак, в глубине комнаты.
Лавальер вскрикнула и, трепеща, упала в кресло.
XLII. Видение
Лавальер быстро оправилась от испуга. Король держался так почтительно, что к ней вернулось спокойствие, которого она лишилась при его появлении. Видя, что Лавальер недоумевает, как он к ней попал, Людовик подробно объяснил ей устройство лестницы и всячески старался убедить ее, что он не призрак.
— О государь, — сказала ему Лавальер с очаровательной улыбкой, качая белокурой головкой, — вы вечно у меня на уме; не проходит секунды, чтобы бедная девушка, тайну которой вы подслушали в Фонтенбло и которую вы не отпустили в монастырь, не думала о вас.
— Луиза, я вне себя от восторга!
Лавальер печально улыбнулась и продолжала:
— Но, увы, государь, ваша остроумная выдумка не может принести нам никакой пользы.
— Почему же?
— Потому что эта комната не ограждена от неожиданных посещений принцессы: днем сюда поминутно ходят мои подруги; запираться изнутри — значит выдать себя; это все равно что написать на двери: «Не входите, здесь король». В эту самую минуту дверь может открыться, и ваше величество застанут вместе со мной.
— Тогда меня, наверное, примут за привидение, — засмеялся король, — потому что никто не поймет, как я попал сюда. Ведь только духи проникают через стены и потолки.
— Ах, государь, какой может выйти скандал! Никогда еще не говорилось таких вещей о бедных фрейлинах, которых, однако, не щадит злословие.
— Что же делать, дорогая Луиза?.. Скажите, я хочу знать.
— Нужно — простите, слова мои будут жестоки…
Людовик улыбнулся:
— Я вас слушаю.
— Нужно, чтобы ваше величество уничтожили лестницу и все эти затеи; подумайте, государь, если вас застанут здесь, выйдут большие неприятности, которые уничтожат всю радость наших встреч.
— Дорогая Луиза, — нежно отвечал король, — можно и не уничтожая лестницы придумать способ избежать всех этих неприятностей.
— Способ?.. Еще?
— Да, еще. Луиза, я люблю вас больше, чем вы меня, потому что я изобретательнее вас.
Она взглянула на него. Людовик протянул ей руку, которую она нежно пожала.
— Вы говорите, — продолжал король, — что каждый без труда может войти сюда и застать меня у вас?
— Да, государь. И даже в настоящую минуту, когда вы разговариваете со мной, я вся дрожу.
— Согласен; но вас не застанут со мной, если вы спуститесь по этой лестнице в нижнюю комнату.
— Государь, что вы говорите? — остановила его испуганная Луиза.
— Вы плохо понимаете меня, Луиза, потому что с первых же моих слов начинаете сердиться; но знаете ли вы, кому принадлежат комнаты внизу?
— Графу де Гишу.
— Нет. Господину де Сент-Эньяну.
— Правда? — вскричала Лавальер.
И это слово, вырвавшееся из обрадованного сердца девушки, блеснуло точно молния сладкого предчувствия в восхищенном сердце короля.
— Да, де Сент-Эньяну, нашему другу.
— Но я не могу, государь, бывать и у господина де Сент-Эньяна, — возразила Лавальер.
— Почему же, Луиза?
— Это невозможно, невозможно!
— Мне кажется, Луиза, что под охраной короля все возможно.
— Под охраной короля? — переспросила она, с любовью заглядывая в глаза Людовику.
— Вы верите моему слову, не правда ли?
— Верю, когда вас нет, государь; но когда вы со мной, когда я слышу ваш голос, когда я вижу вас, я больше ничему не верю.
— Что же может убедить вас, боже мой?
— Я знаю, очень непочтительно так сомневаться в короле, но для меня вы не король.
— Слава богу, надеюсь!.. Но я придумал, послушайте: вас успокоит присутствие третьего лица?
— Присутствие господина де Сент-Эньяна? Да.
— Право, Луиза, ваша недоверчивость оскорбляет меня.
Лавальер ничего не ответила, а только посмотрела на Людовика ясным взглядом, проникающим в глубину сердца, и тихонько сказала:
— Ах, не вам я не верю! Не на вас направлены мои подозрения.
— Хорошо, я согласен, — вздохнул король. — И господин де Сент-Эньян, который пользуется счастливой привилегией успокаивать вас, будет всегда присутствовать при наших встречах, обещаю вам.
— Правда, государь?
— Слово дворянина! А вы?..
— Подождите, это не все.
— Еще что-то, Луиза?
— О, конечно. Немножко терпения, потому что мы еще не дошли до конца, государь.
— Хорошо. Пронзайте насквозь мое сердце.
— Вы понимаете, государь, что даже в присутствии господина де Сент-Эньяна наши встречи должны иметь какой-нибудь разумный предлог.
— Предлог? — повторил король тоном нежного упрека.
— Конечно. Придумайте, государь.
— Вы необычайно предусмотрительны; я так хотел бы сравняться в этом отношении с вами. Для наших встреч будет разумный предлог, и я уже нашел его.
— Значит, государь?.. — улыбнулась Лавальер.
— Значит, завтра, если вам угодно…
— Завтра?
— Вы хотите сказать, что завтра слишком поздно? — вскричал король, сжимая обеими руками горячую руку Лавальер.
В этот момент в коридоре раздались шаги.
— Государь, государь, — зашептала Лавальер, — сюда кто-то идет! Слышите? Государь, умоляю вас, бегите!
Одним прыжком король оказался за ширмой. Он скрылся вовремя. Когда он поднимал люк, ручка двери повернулась, и на пороге показалась Монтале.
Понятно, она вошла запросто, без всяких церемоний. Хитрая Монтале знала, что если бы она постучалась в двери, а не просто открыла ее, то выказала бы обидное недоверие к Лавальер.
Итак, она вошла и, заметив, что два стула стоят очень близко один от другого, принялась так усердно запирать дверь, ставшую почему-то непослушною, что король успел поднять люк и спуститься к де Сент-Эньяну.
Еле уловимый стук дал знать фрейлине, что король ушел. Тогда она справилась наконец с дверью и подошла к Лавальер.
— Луиза, давайте поговорим серьезно, — предложила она.
Все еще сильно взволнованная Луиза с ужасом услышала слово серьезно , на котором Монтале сделала ударение.
— Боже мой, дорогая Ора! — вздрогнула она. — Что еще случилось?
— Моя милая, принцесса догадывается обо всем.
— О чем же?
— Разве нам нужны объяснения? Разве ты не понимаешь меня с полуслова? Ты, конечно, заметила, что последнее время принцесса часто меняла решения: сначала приблизила тебя к себе, затем отдалила, затем снова приблизила.
— Действительно, это странно. Но я привыкла к ее странностям.
— Подожди, это не все. Ты заметила также, что принцесса, исключив тебя вчера из своей свиты, потом велела ехать с ней.
— Как не заметить!
— Так вот, кажется, что принцесса получила теперь достаточные сведения, потому что идет прямо к цели. Не имея возможности противопоставлять что-нибудь во Франции потоку, который сокрушает все препятствия… ты понимаешь, надеюсь, о чем я говорю?
Лавальер закрыла лицо руками.
— Я имею в виду, — продолжала безжалостная Монтале, — тот бурный поток, который взломал двери монастыря кармелиток в Шайо и опрокинул все придворные предрассудки как в Фонтенбло, так и в Париже.
— Увы, увы! — прошептала Лавальер, по-прежнему закрывая лицо пальцами, между которыми катились слезы.
— Не огорчайся так, ведь ты не знаешь еще и половины грозящих тебе неприятностей.
— Боже мой! — с тревогой вскричала Луиза. — Что же еще?
— Вот что: не находя помощи во Франции, после безуспешного обращения к обеим королевам, принцу и всему двору, принцесса вспомнила об одном лице, имеющем на тебя права.
Лавальер побелела как полотно.
— Этого лица, — продолжала Монтале, — в настоящую минуту нет в Париже.
— Боже мой! — шептала Луиза.
— Это лицо, если я не ошибаюсь, в Англии.
— Да, да, — вздохнула совсем разбитая Лавальер.
— Ведь, не правда ли, это лицо находится при дворе короля Карла Второго?
— Да.
— Ну так сегодня вечером из кабинета принцессы отправилось письмо в Сент-Джемсский дворец, и курьер получил приказание лететь без остановки в Гемптон-Корт, королевскую резиденцию в двенадцати милях от Лондона.
— Ну?
— Так вот, принцесса пишет в Лондон регулярно два раза в месяц, и поскольку обыкновенного курьера она отправила только три дня тому назад, то мне кажется, что только очень важные обстоятельства могли побудить ее взяться за перо. Ведь ты знаешь, принцесса не любит писать.
— Да, да.
— И мне сдается, что в этом письме речь идет о тебе.
— Обо мне? — повторила, как автомат, несчастная девушка.
— Я видела это письмо, когда оно лежало еще незапечатанным на письменном столе принцессы, и мне почудилось, будто в нем упоминается…
— Почудилось?..
— Может быть, я ошиблась.
— Ну, говори же скорее!
— Имя Бражелона.
Лавальер встала в сильном волнении.
— Монтале, — сказала она со слезами в голосе, — все светлые грезы юности у меня уже рассеялись. Мне нечего теперь скрывать ни от тебя, ни от кого в мире. Жизнь моя — раскрытая книга, которую может читать всякий, начиная с короля и кончая первым встречным. Ора, дорогая Ора, что делать? Как быть?
Монтале подошла ближе.
— Надо обсудить, подумать, — протянула она.
— Я не люблю господина де Бражелона. Не истолкуй мои слова превратно. Я его люблю, как самая нежная сестра может любить доброго брата, но не того он просит, и не то я ему обещала.
— Словом, ты любишь короля, — заключила Монтале, — и это достаточное извинение.
— Да, я люблю короля, — тихо прошептала Лавальер, — и я дорого заплатила за право произнести эти слова. Ну, говори же, Монтале, что ты можешь сделать для меня или против меня в настоящем положении?
— Выскажись яснее.
— О чем?
— Неужели ты не можешь сообщить мне никаких подробностей?
— Нет, — с удивлением проговорила Луиза.
— Значит, ты у меня просишь только совета?
— Да.
— Относительно господина Рауля?
— Именно.
— Это щекотливый вопрос, — отвечала Монтале.
— Ничего тут нет щекотливого. Выходить мне за него замуж или же слушаться короля?
— Знаешь, ты ставишь меня в большое затруднение, — улыбнулась Монтале. — Ты спрашиваешь, выходить ли тебе замуж за Рауля, с которым я дружна и которому доставлю большое огорчение, высказавшись против него. Затем ты задаешь вопрос, нужно ли слушаться короля; но ведь я подданная короля и оскорбила бы его, дав тебе тот или иной совет. Ах, Луиза, Луиза, ты очень легко смотришь на очень трудное положение!
— Ты меня не поняла, Ора, — сказала Лавальер, обиженная насмешливым тоном Монтале. — Если я говорю о браке с господином де Бражелоном, то лишь потому, что я не могу выйти за него замуж, не причинив ему огорчения; но по тем же причинам следует ли мне позволить королю сделаться похитителем малоценного, правда, блага, но которому любовь сообщает известное достоинство? Итак, я прошу тебя только научить меня почетно освободиться от обязательств по отношению к той или другой стороне, посоветовать, каким образом я могу с честью выйти из этого положения.
— Дорогая Луиза, — отвечала, помолчав, Монтале, — я не принадлежу к числу семи греческих мудрецов, и я не знаю незыблемых правил поведения. Зато у меня есть некоторый опыт, и я могу тебе сказать, что женщины просят подобных советов, только когда бывают поставлены в очень затруднительное положение. Ты дала торжественное обещание, у тебя есть чувство чести. Поэтому, если, приняв на себя такое обязательство, ты не знаешь, как поступить, то чужой совет — а для любящего сердца все будет чужим — не выведет тебя из затруднения. Нет, я не буду давать тебе советов, тем более что на твоем месте я чувствовала бы себя еще более смущенной, получив совет, чем до его получения. Все, что я могу сделать, это спросить: хочешь, чтобы я тебе помогала?
— Очень хочу.
— Прекрасно; это главное… Скажи, какой же помощи ты ждешь от меня?
— Но прежде скажи мне, Ора, — проговорила Лавальер, пожимая руку подруги, — на чьей ты стороне?
— На твоей, если ты действительно дружески относишься ко мне.
— Ведь принцесса доверяет тебе все свои тайны?
— Тем более я могу быть полезной тебе; если бы я ничего не знала относительно намерений принцессы, я не могла бы тебе помочь и, следовательно, от знакомства со мной тебе бы не было никакого проку. Дружба всегда питается такого рода взаимными одолжениями.
— Значит, ты по-прежнему останешься другом принцессы?
— Конечно. Ты недовольна этим?
— Нет, — пожала плечами Лавальер, которой эта циничная откровенность казалась оскорбительной.
— Вот и прекрасно, — воскликнула Монтале, — иначе ты была бы дурой.
— Значит, ты мне будешь помогать?
— С большой готовностью, особенно если ты отплатишь мне тем же.
— Можно подумать, что ты не знаешь меня, — обиделась Лавальер, глядя на Монтале широко раскрытыми от удивления глазами.
— Гм, гм! С тех пор как мы при дворе, дорогая Луиза, мы очень изменились.
— Как так?
— Да очень просто; разве там, в Блуа, ты была второй королевой Франции?
Лавальер опустила голову и заплакала.
Монтале сочувственно посмотрела на нее и прошептала:
— Бедняжка!
Затем, спохватившись, сказала:
— Бедный король!
Она поцеловала Луизу в лоб и ушла в свою комнату дожидаться Маликорна.
XLIII. Портрет
Во время болезни, известной под названием любовь , припадки повторяются сначала очень часто. Затем они становятся все более редкими. Установив это как общую аксиому, будем продолжать наш рассказ.
На следующий день, то есть в день, когда королем было назначено первое свидание у де Сент-Эньяна, Лавальер, раздвинув ширмы, нашла на полу записку, написанную рукой короля. Эта записка была просунута из нижнего этажа в щелку паркета. Ничья нескромная рука, ничей любопытный взгляд не мог проникнуть туда, куда проникла эта бумажка. Это была выдумка Маликорна. Не желая, чтобы король был всем обязан де Сент-Эньяну, он по собственному почину решил взять на себя роль почтальона.
Лавальер с жадностью прочитала записку, в которой назначалось свидание в два часа дня и давалось пояснение, как поднимать люк. «Оденьтесь понаряднее», — стояло в приписке. Эти слова изумили девушку, но в то же время успокоили ее.
Время двигалось медленно. Наконец назначенный час наступил.
Пунктуальная, как жрица Геро, Луиза подняла люк, едва только пробило два часа, и увидела внизу короля, почтительно подавшего ей руку. Это внимание глубоко ее тронуло.
Когда Лавальер спустилась, к ней, улыбаясь, подошел граф и с изысканным поклоном поблагодарил за оказанную честь. Потом, обернувшись к королю, он прибавил:
— Государь, он здесь.
Лавальер с беспокойством взглянула на Людовика.
— Мадемуазель, — сказал король, — я не без умысла просил вас оказать мне честь и спуститься сюда. Я пригласил прекрасного художника, умеющего в совершенстве передавать сходство, и желаю, чтобы вы разрешили ему написать ваш портрет. Впрочем, если вы непременно этого потребуете, портрет останется у вас.
Лавальер покраснела.
— Вы видите, — добавил король, — мы будем здесь даже не втроем, а вчетвером. Словом, если мы не наедине, здесь будет столько гостей, сколько вы пожелаете.
Лавальер тихонько пожала пальцы короля.
— Перейдем в соседнюю комнату, если будет угодно вашему величеству, — предложил де Сент-Эньян.
Он открыл дверь и пропустил гостей.
Король шел за Лавальер, любуясь ее нежной розовой шеей, на которую спускались завитки белокурых волос. Лавальер была в светло-сером шелковом платье; агатовое ожерелье оттеняло белизну ее кожи. В маленьких изящных руках она держала букет из анютиных глазок и бенгальских роз, над которыми, точно чаша с ароматами, возвышался гарлемский тюльпан с серовато-фиолетовыми лепестками, стоивший садовнику пяти лет усердных трудов, а королю пяти тысяч ливров.
В комнате, только что открытой де Сент-Эньяном, стоял молодой человек в бархатном костюме, с красивыми черными глазами и густыми черными волосами. Это был художник.
Холст был приготовлен, на палитре лежали краски. Художник поклонился мадемуазель де Лавальер с любопытством артиста, изучающего свою модель, и сдержанно поздоровался с королем, как с обыкновенным дворянином. Потом, подведя мадемуазель де Лавальер к приготовленному для нее креслу, он попросил ее сесть.
Молодая девушка села в кресло грациозно и непринужденно; в руках она держала цветы, ноги вытянула на подушку, и художник, чтобы придать взгляду девушки большую естественность, предложил ей чем-нибудь заняться. Людовик XIV с улыбкой опустился на подушки у ног своей возлюбленной. Таким образом, Лавальер сидела, откинувшись на спинку кресла, с цветами в руке, а король, подняв глаза, пожирал ее взглядом. Художник несколько минут с удовольствием наблюдал эту группу, а де Сент-Эньян смотрел на нее с завистью.
Художник быстро сделал эскиз; затем после первых же мазков на сером фоне стало выступать поэтичное лицо с кроткими глазами и розовыми щеками, обрамленное золотистыми локонами.
Влюбленные говорили мало и все смотрели друг на друга. Иногда глаза их делались такими томными, что художнику приходилось прерывать работу, чтобы не изобразить вместо Лавальер Эрицину. Тогда на выручку приходил де Сент-Эньян: он декламировал стихи или рассказывал историйку в духе Патрю или Таллемана де Рео.
Когда Лавальер уставала, делали перерыв.
Аксессуарами к этой картине служили поднос из китайского фарфора с самыми лучшими плодами, какие можно было найти, херес, сверкавший топазами в серебряных кубках, но художнику предстояло увековечить только лицо, самое эфемерное явление из всего окружающего.
Людовик упивался любовью, Лавальер — счастьем, де Сент-Эньян — честолюбием.
Так прошло два часа; когда часы пробили четыре, Лавальер встала и подала королю знак. Людовик поднялся, подошел к картине и сделал несколько комплиментов художнику. Де Сент-Эньян похвалил сходство, очень заметное уже после первого сеанса. Лавальер, в свою очередь, краснея, поблагодарила художника и удалилась в соседнюю комнату, куда за ней пошел король, позвав де Сент-Эньяна.
— До завтра, не правда ли? — обратился к Лавальер Людовик.
— Но если ко мне придут, государь, и не застанут меня?
— Так что же?
— Что будет со мной?
— Какая вы трусиха, Луиза!
— А если за мной пришлет принцесса?
— Неужели не наступит день, когда вы сами попросите меня не считаться ни с чем и не расставаться с вами? — воскликнул король.
— В тот день, государь, я буду безумна, и вы не должны будете слушать меня.
— До завтра, Луиза.
Лавальер вздохнула; потом, не имея сил сопротивляться просьбе короля, чуть слышно произнесла:
— Раз вы этого хотите, государь, до завтра.
И с этими словами поднялась по лестнице и исчезла.
— Что вы скажете, государь? — спросил де Сент-Эньян, когда она скрылась.
— Скажу, что вчера я считал себя счастливейшим из смертных.
— Неужели сегодня ваше величество считает себя самым несчастным из них? — с улыбкой сказал граф.
— Нет. Но эта любовь — неутолимая жажда; напрасно я ловлю капли влаги, которые твоя изобретательность доставляет мне: чем больше я пью, тем больше мне хочется пить.
— Государь, в этом отчасти повинны вы сами. Ваше величество сами создали настоящее положение вещей.
— Ты прав.
— Поэтому в подобных случаях, государь, лучшее средство быть счастливым — считать себя удовлетворенным и ждать.
— Ждать? Тебе, значит, знакомо слово «ждать»?
— Полно, государь, полно, не огорчайтесь. Я уже придумал кое-что, придумаю и еще.
Король безнадежно покачал головой.
— Как, государь? Вы уже недовольны?
— Доволен, дорогой де Сент-Эньян. Но придумывай скорее, придумывай новое.
— Государь, я обещаю вам подумать, вот все, что я могу сказать.
Не имея возможности любоваться оригиналом, король захотел еще раз взглянуть на портрет. Он указал художнику на некоторые недостатки и ушел. После этого де Сент-Эньян отпустил художника.
Мольберт, краски, палитра еще не были убраны, как из-за портьеры высунулась голова Маликорна. Де Сент-Эньян принял его с распростертыми объятиями, но в то же время с некоторой грустью. Облако, омрачившее царственное солнце, в свою очередь, затмило и его верного спутника. Маликорн сразу заметил этот налет грусти на лице де Сент-Эньяна.
— Что это, граф, вы так мрачны? — поинтересовался он.
— Немудрено, мой милый. Поверите ли вы, что король недоволен.
— Недоволен лестницей?
— Нет, напротив, лестница ему очень понравилась.
— Значит, убранство комнат пришлось ему не по вкусу?
— На него он даже не обратил внимания. Нет, королю не понравилось…
— Понимаю, граф: ему не понравилось, что на любовном свидании присутствовало два свидетеля. Как же вы, граф, не предусмотрели этого?
— Как мог я предусмотреть, дорогой Маликорн, если я в точности исполнил предписание короля.
— Его величество действительно настаивал на вашем присутствии?
— Очень настаивал.
— И пригласил также художника, которого я сейчас встретил?
— Потребовал, господин Маликорн, потребовал!
— В таком случае я отлично понимаю причину недовольства его величества.
— Каким же образом он мог остаться недоволен буквальным исполнением своего распоряжения? Ничего не понимаю.
Маликорн почесал затылок.
— В котором часу король назначил свидание? — спросил он.
— В два часа.
— А вы ожидали короля с какого часа?
— С половины второго.
— Неужели?
— Как же иначе? Хорош был бы я, если бы опоздал!
Несмотря на все уважение к де Сент-Эньяну, Маликорн не удержался и пожал плечами.
— А художнику король тоже велел прийти к двум часам? — спросил он.
— Нет. Но я привел его сюда к двенадцати. Лучше, чтобы художник подождал два часа, чем король одну минуту.
Маликорн залился беззвучным смехом.
— Лучше, мой милый, поменьше смейтесь и побольше говорите, — обиженно заметил де Сент-Эньян.
— Вы требуете?
— Умоляю.
— Так вот что, граф: если вы желаете, чтобы король был доволен, то в следующий же раз, когда он придет…
— Он придет завтра.
— Итак, если вы хотите, чтобы король завтра был доволен…
— Хочу ли я? Что за вопрос!
— Ну так завтра, когда придет король, у вас должно найтись самое неотложное дело и вам во что бы то ни стало надо будет отлучиться.
— Что вы говорите?
— На двадцать минут.
— Оставить короля одного на целых двадцать минут?! — в ужасе воскликнул де Сент-Эньян.
— Ну ладно, допустим, что я ничего не сказал, — проговорил Маликорн, направляясь к двери.
— Нет, нет, дорогой Маликорн, напротив, выскажитесь до конца, я начинаю понимать. А художник, художник?
— Ну, а художник пусть запоздает на полчаса.
— Вы думаете, на полчаса?
— Да, я думаю.
— Дорогой мой, я так и сделаю.
— И я уверен, что не пожалеете. Вы мне позволите зайти завтра справиться?
— Конечно.
— Имею честь быть вашим покорным слугой, господин де Сент-Эньян.
И Маликорн удалился с почтительным поклоном.
— Положительно, этот малый умнее меня, — молвил де Сент-Эньян, убежденный его доводами.
XLIV. Гемптон-Корт
Откровенная беседа между Монтале и Луизой в конце предпоследней главы, естественно, приводит нас к главному герою нашей повести — бедному странствующему рыцарю, изгнанному из Парижа прихотью короля.
Если читателю угодно последовать за нами, мы переправимся вместе с ним через пролив, отделяющий Кале от Дувра; пересечем плодородную зеленую равнину, орошенную тысячью ручейков, которая окружает Черинг, Медстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся наконец в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Рауль, побывав в Уайтхолле, а затем в Сент-Джемсе, был принят Монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II, мы, как ищейки, последуем за ним в одну из летних резиденций Карла II, Гемптон-Корт, на берегу Темзы, недалеко от Кингстона.
В этом месте река еще не является тем оживленным путем, по которому ежедневно передвигается до полумиллиона путешественников; тут она еще не вздымает свои волны, черные, как воды Коцита, говоря: «Я тоже море». Нет, это еще тихая и зеленая речка с мшистыми берегами, с большими широкими заводями, отражающими ивы и буки, с редкими лодками, уснувшими там и сям среди тростников, в бухточках, поросших ольхой и незабудками.
Пейзаж очень красивый и спокойный. Кирпичный дом прорывает своими трубами, откуда вьются синие струйки дыма, плотную стену зеленого остролистника. Среди высокой травы то показывается, то исчезает ребенок в красной блузе, словно мак, колеблемый дуновением ветра.
Большие белые овцы, закрыв глаза, пережевывают жвачку в тени невысоких осин, и время от времени мартын-рыболов, сверкая золотисто-изумрудными перьями, точно мячик, несется над водой и легкомысленно задевает лесу своего собрата рыбака, подстерегающего линя или окуня.
Над всем этим раем, сотканным из глубокой тени и мягкого света, возвышается замок Гемптон-Корт, построенный кардиналом Уолси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец принужден был подарить его своему повелителю, Генриху VIII.
Гемптон-Корт, с коричневыми стенами, большими окнами, красивыми железными решетками, с тысячью башенок, со странными колоколенками, с потайными ходами и фонтанами во дворе, как в Альгамбре, Гемптон-Корт — колыбель роз и жасминов. Он радует зрение и обоняние, он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом II, среди великолепных полотен Тициана, Порденоне и Ван-Дейка, — тем самым Карлом II, в галерее которого висел портрет казненного Карла I и на деревянной обшивке стен видны были дыры от пуританских пуль, выпущенных солдатами в Кромвеля 24 августа 1648 года, когда они привели Карла I в Гемптон-Корт в качестве пленника.
Тут собирал свой двор его сын, вечно жаждавший удовольствий, этот поэт в душе, недавний бедняк, который днями наслаждений возмещал каждую минуту, проведенную в лишениях и нищете.
Не мягкий газон Гемптон-Корта, такой нежный, что кажется, будто идешь по бархату; не громадные липы, ветви которых, как у ив, свисают до самой земли и скрывают в своей тени любовников и мечтателей; не клумбы пышных цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов в двадцать футов вышины, которые раскидываются в воздухе, как огромные снопы, — не эти красоты любил Карл II в прекрасном дворце Гемптон-Корт.
Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, покрывавшуюся морщинами от малейшего ветерка и колеблющуюся, словно волнистые волосы Клеопатры? Или пруды, заросшие ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую сердцевинку? Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали черные лебеди и маленькие прожорливые утки, гонявшиеся за зелеными мухами, вьющимися над цветами, и за лягушатами в их убежищах из прохладного мха?
Может быть, его привлекали огромные остролистники, легкие мостики, переброшенные через канавы, серны, мелькавшие в бесконечных аллеях, или трясогузки, порхавшие среди букса и клевера?
Все это есть в Гемптон-Корте; кроме того — шпалеры белых роз, вьющихся по высоким трельяжам и усыпающих землю благоуханным снегом своих лепестков. В тамошнем парке есть также старые смоковницы с позеленевшими стволами и с корнями, ушедшими в поэтические и роскошные пласты мха.
Нет, Карл II любил в Гемптон-Корте очаровательные женские фигуры, которые после полудня мелькали по террасам; он, подобно Людовику XIV, приказывал выдающимся художникам запечатлевать их красоту, так что на полотнах осталось увековеченным множество красивых глаз, лучившихся любовью.
В день, когда мы приезжаем в Гемптон-Корт, небо почти так же нежно и ясно, как во Франции; в воздухе влажная теплота; от герани, душистого горошка и гелиотропа, тысячами разбросанных по цветнику, распространяется пьянящий аромат.
Час дня. Вернувшись с охоты, король пообедал, побывал у герцогини Каслмен и, доказав таким образом свою верность официальной любовнице, может до вечера со спокойной совестью изменять ей.
Весь двор резвится и флиртует. Дамы серьезно спрашивают у кавалеров, какие чулки им больше подходят: розовые или зеленые. Карл II объявляет, что единственное спасение для женщины — зеленые шелковые чулки, потому что такие чулки носит мисс Люси Стюарт.
Пока король убеждает других перенять его вкусы, мы займемся направляющейся ко дворцу по буковой аллее молодой дамой в темном, об руку с другой дамой, одетой в лиловое платье.
Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и, беседуя, поднялись на террасу, вдоль которой тянулось несколько павильонов различной формы; почти все они были заняты, и молодые женщины прошли мимо, не останавливаясь, причем одна покраснела, а другая задумалась.
Наконец они достигли конца террасы, выходившей на Темзу, и, отыскав тенистый и прохладный уголок, уселись на скамью.
— Куда мы идем, Стюарт? — спросила младшая.
— Ты ведешь, дорогая Грефтон, и я иду за тобой.
— Я?
— Конечно, ты! Туда, где на скамейке ждет и вздыхает молодой француз.
Мисс Мэри Грефтон моментально остановилась.
— Нет, нет! Я не хочу туда.
— Почему?
— Вернемся, Стюарт.
— Напротив, пойдем дальше и объяснимся.
— По поводу чего?
— По поводу того, что виконт де Бражелон всегда встречается с тобой, когда ты выходишь, и ты всегда встречаешься с ним, когда он выходит.
— И отсюда ты заключаешь, что он меня любит или что я его люблю?
— А почему бы и нет? Он очаровательный юноша. Надеюсь, никто меня не слышит? — сказала мисс Люси Стюарт, оглядываясь с улыбкой, доказывавшей, впрочем, что ее беспокойство не столь велико.
— Нет, нет, — отвечала Мэри, — король в своем овальном кабинете с герцогом Бекингэмом.
— Кстати, по поводу герцога, Мэри…
— Что?
— Мне кажется, что после возвращения из Франции он объявил себя твоим рыцарем. Как ты к этому относишься?
Мэри Грефтон пожала плечами.
— Ну хорошо! Я спрошу об этом красавца Бражелона, — засмеялась Стюарт. — Пойдем скорей к нему.
— Зачем?
— Мне нужно с ним поговорить.
— Подожди. Мне раньше нужно поговорить с тобой. Скажи, Стюарт, ведь ты знаешь маленькие секреты короля?
— Ты думаешь?
— Кому же больше их знать! Скажи, почему господин де Бражелон в Англии? Что он здесь делает?
— То, что делает всякий дворянин, посланный одним королем к другому.
— Допустим. Однако хотя мы и не сильны в политике, мы все же настолько смыслим в ней, чтобы видеть, что у господина де Бражелона нет здесь никакого серьезного дела.
— Послушай, — сказала Стюарт с деланной важностью. — Я, так и быть, выдам тебе государственную тайну. Хочешь, я перескажу тебе верительное письмо короля Людовика Четырнадцатого к его величеству Карлу Второму, привезенное господином Бражелоном?
— Конечно, хочу.
— Вот оно: «Брат мой! Я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас хорошо принять его и внушить ему любовь к Англии».
— Только и всего?
— Да… или что-то в этом роде. Не отвечаю за точность выражений, но смысл такой.
— И что же отсюда следует? Или, вернее, какой вывод сделал король?
— Что у его величества, короля Франции, был какой-то повод удалить господина де Бражелона и женить его… где-нибудь за пределами Франции.
— Значит, благодаря этому письму…
— Как тебе известно, король Карл Второй принял господина де Бражелона великолепно и по-дружески; он предоставил ему лучшую комнату в Уайтхолле, и так как ты являешься теперь украшением двора, ты отвергла любовь короля… Полно, не красней… то король пожелал расположить тебя к французу и поднести ему прекрасный подарок. Вот почему ты — наследница трехсот тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая — участвуешь, по желанию короля, во всех прогулках, предпринимаемых господином де Бражелоном. Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я даю тебе огонь.
Мисс Мэри очаровательно улыбнулась и пожала руку подруги:
— Поблагодари короля.
— Непременно. Но берегись, господин Бекингэм ревнив! — погрозила Стюарт.
Не успела она произнести эти слова, как из одного павильона на террасе появился герцог и, подойдя к дамам, с улыбкой сказал:
— Вы ошибаетесь, мисс Люси. Я не ревнив и вот вам доказательство, мисс Мэри: вон там мечтает в одиночестве виконт де Бражелон, который, по-вашему, должен быть причиной моей ревности. Бедняга! Надеюсь, что вы не откажетесь разделить его одиночество, а я хочу побеседовать наедине с мисс Люси Стюарт.
И, поклонившись Люси, герцог прибавил:
— Разрешите мне предложить вам руку и проводить к королю, который ждет нас.
С этими словами Бекингэм увел мисс Люси Стюарт.
Оставшись одна, Мэри Грефтон сидела несколько мгновений неподвижно, потупив голову с грацией, свойственной молоденьким англичанкам; глаза ее были нерешительно устремлены на Рауля, а в сердце шла борьба, о которой можно было судить по тому, что ее щеки то бледнели, то алели. Наконец она, по-видимому, решилась и довольно твердыми шагами подошла к скамейке, на которой, как сказал герцог, Рауль мечтал в одиночестве.
Как ни легки были шаги мисс Мэри, звук их привлек внимание Рауля. Он оглянулся, заметил молодую девушку и пошел ей навстречу.
— Меня к вам послали, сударь, — заговорила Мэри Грефтон, — вы меня принимаете?
— Кому же я обязан таким счастьем, мадемуазель? — спросил Рауль.
— Господину Бекингэму, — с притворной веселостью поклонилась Мэри.
— Герцогу Бекингэму, который так добивается вашего драгоценного общества? Возможно ли, мадемуазель?
— Право, сударь, как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую или, вернее, большую часть дня. Вчера король мне приказал быть за столом подле вас; сегодня герцог предлагает мне посидеть с вами на скамейке.
— И он ушел, чтобы освободить место? — в смущении произнес Рауль.
— Посмотрите на поворот аллеи: он уходит с мисс Стюарт. Скажите, виконт, у вас во Франции кавалеры тоже оказывают такие любезности?
— Я не могу, мадемуазель, сказать вам в точности, что делают во Франции, потому что меня едва ли можно назвать французом. Я побывал во многих странах, почти всегда в качестве солдата; кроме того, я провел много времени в деревне. Я настоящий дикарь.
— Англия вам не нравится, не правда ли?
— Не знаю, — рассеянно и со вздохом отвечал Рауль.
— Как не знаете?
— Простите, — поспешно проговорил Рауль, встряхивая головой и собираясь с мыслями. — Простите, я не расслышал.
— Ах, — вздохнула девушка, — напрасно герцог Бекингэм прислал меня сюда!
— Напрасно? — с живостью спросил Рауль. — Да, вы правы, я человек угрюмый, вам со мной скучно. Господину Бекингэму не следовало посылать вас ко мне.
— Именно потому, что мне не скучно с вами, — возразила Мэри своим нежным голосом, — господину Бекингэму не следовало посылать меня к вам.
Рауль смутился и покраснел.
— Каким образом господин Бекингэм мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите…
— Нет, — отвечала Мэри, — нет, герцог Бекингэм не любит меня, он любит герцогиню Орлеанскую; что же касается меня, то я не питаю никаких чувств к герцогу.
Рауль с удивлением посмотрел на девушку.
— Вы друг герцога, виконт? — спросила она.
— Герцог удостаивает меня чести называть своим другом, с тех пор как мы познакомились с ним во Франции.
— Значит, вы простые знакомые?
— Нет, потому что герцог Бекингэм близкий друг человека, которого я люблю, как брата.
— Графа де Гиша?
— Да, мадемуазель.
— Который влюблен в герцогиню Орлеанскую?
— Что вы говорите?
— И любим ею, — спокойно закончила девушка.
Рауль опустил голову; мисс Мэри Грефтон продолжала со вздохом:
— Они очень счастливы… Покиньте меня, господин де Бражелон, потому что герцог весьма неудачно предложил меня вам в спутницы. Ваше сердце занято другой, и вы дарите мне ваше внимание, как милостыню. Сознайтесь, сознайтесь… Было бы дурно с вашей стороны, виконт, не сказать правды.
— Извольте, я сознаюсь.
Грефтон взглянула на него. Бражелон держался так просто и был так красив, в глазах его светилось столько прямоты и решимости, что мисс Мэри не могла заподозрить его в невежливости или глупости. Она поняла, что Рауль любит другую, любит самым искренним образом!
— Да, конечно, — проговорила она. — Вы влюблены в какую-нибудь француженку.
Рауль поклонился.
— Герцог знает о вашей любви?
— О ней никто не знает, — отвечал Рауль.
— Почему же вы сказали об этом мне?
— Мадемуазель…
— Признайтесь.
— Не могу.
— Значит, первый шаг придется сделать мне. Вы не хотите говорить, так как убеждены теперь, что я не люблю герцога, что я, может быть, полюбила бы вас. Вы искренний и скромный человек, не желающий профанировать настоящее чувство; вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту: «Моя любовь во Франции». Благодарю вас, господин де Бражелон, вы благородный человек, и я впредь буду еще больше любить вас… по-дружески. Но довольно обо мне, поговорим о вас. Забудьте, что мисс Грефтон говорила вам о себе, скажите мне лучше, почему вы печальны, почему за последние дни вы стали грустить еще больше?
Рауль был до глубины сердца взволнован этим нежным и задушевным голосом; он не нашелся, что ответить, и Мэри снова пришла ему на помощь.
— Пожалейте меня, — сказала она. — Моя мать была француженка. Значит, я могу сказать, что по крови и душой я француженка. Но над моей французской пылкостью вечно расстилается английский туман и английская хандра. Именно у меня рождаются золотые грезы об упоительном счастье, но туман окутывает их, и они истаивают. Так произошло и теперь. Простите, довольно об этом, дайте мне вашу руку и поведайте другу о своих горестях.
— Вы говорите, что вы француженка душой и по крови?
— Да, моя мать была француженкой, а мой отец, друг короля Карла Первого, эмигрировал во Францию; таким образом, во время суда над королем и правления Кромвеля я воспитывалась в Париже. После реставрации Карла Второго мой отец вернулся в Англию и почти тотчас же умер. Тогда король пожаловал мне титул герцогини и увеличил мои владения.
— У вас есть родственники во Франции?
— Есть сестра, которая старше меня на семь или восемь лет; она вышла замуж во Франции и успела уже овдоветь. Это маркиза де Бельер.
Рауль встал с места.
— Вы ее знаете?
— Я слышал это имя.
— Она тоже любит, и ее последние письма говорят мне, что она счастлива. У меня, как я уже сказала вам, господин де Бражелон, половина ее души, но нет и сотой доли ее счастья. Поговорим теперь о вас. Кого вы любите во Франции?
— Одну милую девушку, чистую и нежную, как лилия.
— Но если она тоже любит вас, то почему вы печальны?
— До меня дошли слухи, что она меня больше не любит.
— Надеюсь, вы им не верите?
— Письмо, в котором сообщается об этом, не подписано.
— Аноним! Тут кроется предательство, — проговорила мисс Грефтон.
— Взгляните, — сказал Рауль, подавая девушке сто раз прочитанную им записку.
Мэри Грефтон взяла листок и прочла:
«Виконт, вы хорошо делаете, что развлекаетесь с придворными красавицами в Англии, потому что при дворе короля Людовика Четырнадцатого замок вашей любви осажден. Оставайтесь поэтому в Лондоне навсегда, бедный виконт, или скорее возвращайтесь в Париж».
— Без подписи? — спросила Мэри.
— Без подписи.
— Значит, не верьте.
— Но я получил еще одно письмо.
— От кого?
— От господина де Гиша.
— О, это другое дело! Что же он вам пишет?
— Читайте.
«Друг мой, я ранен, болен. Вернитесь, Рауль, вернитесь!
— Что же вы собираетесь делать? — спросила Мэри, у которой замерло сердце.
— Получив это письмо, я хотел было тотчас же испросить согласия короля на отъезд.
— Когда же вы получили письмо?
— Позавчера.
— На нем стоит пометка «Фонтенбло».
— Странно, не правда ли? Двор в Париже. Словом, я уехал бы. Но когда я обратился к королю с просьбой об отъезде, он рассмеялся и сказал: «Господин посол, почему вы решили уехать? Разве ваш государь отзывает вас?» Я покраснел, смутился. В самом деле, король послал меня сюда, и я не получил от него приказания вернуться.
Мэри сдвинула брови и задумалась.
— И вы остаетесь? — поразилась она.
— Приходится, мадемуазель.
— А та, кого вы любите…
— Да?
— Она вам писала?
— Ни разу.
— Ни разу? Значит, она вас не любит?
— По крайней мере со времени моего отъезда в Англию она не прислала ни одного письма.
— А прежде писала?
— Иногда… О, я уверен, ей что-нибудь помешало!
— Вот и герцог: ни слова о нашем разговоре!
Действительно, в конце аллеи показался герцог; он был один и с улыбкой подошел к собеседникам, протягивая им руку.
— Договорились? — поинтересовался он.
— О чем? — удивилась Мэри Грефтон.
— О том, что может сделать вас счастливой, дорогая Мэри, и рассеять грусть Рауля.
— Я не понимаю вас, милорд, — произнес Рауль.
— Разрешите мне говорить при виконте, мисс Мэри? — с улыбкой попросил Бекингэм.
— Если вы хотите сказать, — гордо отвечала Мэри, — что я готова была полюбить господина де Бражелона, то не трудитесь. Я сама уже сказала ему об этом.
Немного подумав, Бекингэм без всякого смущения ответил:
— Я оставил вас с виконтом именно потому, что знаю ваш тонкий ум и деликатность; его больное сердце может исцелить только такой искусный врач, как вы.
— Но ведь прежде, чем заговорить о сердце господина де Бражелона, вы говорили мне о вашем собственном. Значит, вы хотите, чтобы я принялась лечить сразу два сердца?
— Это правда, мисс Мэри. Но вы должны признать, что я быстро отказался от вашей помощи, убедившись в неизлечимости своей раны.
Мэри на мгновение задумалась.
— Милорд, — продолжала она, — господин де Бражелон счастлив. Он любит и любим. Следовательно, и ему не нужно врача.
— Господина де Бражелона, — сказал Бекингэм, — ждет тяжелая болезнь, и ему больше, чем когда-нибудь, понадобится заботливое лечение.
— Что вы имеете в виду, милорд? — с живостью спросил Рауль.
— Вам я ничего не скажу. Но если вы желаете, я посвящу мисс Мэри в такие вещи, которых вам нельзя слышать.
— Милорд, вы что-то знаете и подвергаете меня пытке!
— Я знаю, что мисс Мэри Грефтон самое очаровательное создание, какое может встретить на своем пути больное сердце.
— Милорд, я уже сказала вам, что виконт де Бражелон любит другую, — проговорила Мэри.
— Напрасно.
— Вы что-то скрываете, герцог! Объясните, почему я люблю напрасно?
— Но кого же он любит? — вскричала Мэри.
— Он любит женщину, недостойную его, — спокойно отвечал Бекингэм с флегматичностью, которая свойственна только англичанам.
Мисс Мэри Грефтон вскрикнула, и ее порыв не меньше, чем слова Бекингэма, поверг Бражелона в трепет.
— Герцог, вы произнесли слова, объяснения которых я, не медля ни секунды, отправляюсь искать в Париже.
— Вы останетесь здесь, — твердо произнес Бекингэм.
— Я?
— Да, вы.
— Почему же?
— Да потому, что вы не имеете права уехать и поручения, данного королем, не бросают ради женщины, хотя бы она была так же достойна любви, как Мэри Грефтон.
— В таком случае объясните мне все.
— Хорошо. Но вы останетесь?
— Да, если вы будете со мной откровенны.
Бекингэм открыл уже рот, чтобы рассказать все, что он знал, но в эту минуту в конце террасы показался лакей и подошел к павильону, в котором находился король с мисс Люси Стюарт. За лакеем следовал запыленный курьер, очевидно, всего только несколько минут тому назад ступивший на землю.
— Курьер из Франции! От принцессы! — вскричал Рауль, узнав ливрею слуг принцессы.
Курьер попросил доложить о себе королю: герцог и мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.
XLV. Курьер принцессы
Карл II доказывал или пытался доказать мисс Стюарт, что он думает только о ней; он обещал ей такую же любовь, какую его дед, Генрих IV, испытывал к Габриэли. К несчастью для Карла II, он неудачно выбрал день, ибо как раз в этот день мисс Стюарт вздумала заставить его ревновать. Поэтому, выслушав уверения короля, она совсем не растрогалась, как надеялся Карл II, а звонко расхохоталась.
— Ах, государь, государь! — со смехом воскликнула она. — Если бы я захотела попросить у вас доказательства вашей любви, как мне было бы легко уличить вас во лжи.
— Послушайте, — сказал ей Карл, — вы знаете мои картины Рафаэля, знаете, как я ими дорожу. Все мне завидуют. Вы знаете также, что мой отец купил их через Ван-Дейка. Хотите, я сегодня же прикажу отнести их к вам?
— Нет, — отвечала мисс Стюарт, — держите их у себя, государь, мне негде поместить таких знатных гостей.
— В таком случае я подарю вам Гемптон-Корт.
— К чему такая щедрость, государь, лучше любите подольше, вот все, чего я от вас прошу.
— Я буду любить вас всегда. Довольно этого?
— Вы смеетесь, государь.
— Разве вы хотите, чтобы я плакал?
— Нет, но мне хотелось бы видеть вас в более меланхолическом настроении.
— Боже сохрани, красавица. Я уже достаточно погоревал: четырнадцать лет изгнания, бедности, унижений! Мне кажется, долг уплачен; кроме того, меланхолия нам не к лицу.
— Вы ошибаетесь: взгляните на молодого француза.
— На виконта де Бражелона? Вы тоже? Вот проклятие! Видно, все мои дамы с ума сойдут из-за него. Но ведь у него есть причина для меланхолии.
— Какая?
— Вы хотите, чтобы я выдал вам государственную тайну?
— Да, хочу; ведь вы сказали, что готовы сделать все, чего я пожелаю.
— Ну хорошо, ему здесь скучно. Довольны вы?
— Ему скучно?
— Да. Разве это не доказывает, что он глуп?
— Почему же глуп?
— Да как же! Посудите: я ему позволяю любить мисс Мэри Грефтон, а он скучает!
— Мило! Значит, если бы мисс Люси Стюарт не любила вас, вы утешились бы, полюбив мисс Мэри Грефтон?
— Я этого не говорю. Ведь вы отлично знаете, что Мэри Грефтон меня не любит, а утратив любовь, человек утешается, только найдя новую любовь. Но, повторяю, речь идет не обо мне, а об этом молодом человеке. Правда, подумаешь, что та, кого он покидает, — Елена; понятно, Елена до Париса.
— Значит, этот молодой человек кого-то покидает?
— Вернее, его покидают.
— Бедняга! Ну что ж, поделом!
— Почему поделом?
— А зачем он уехал?
— Вы думаете, он уехал по своей воле?
— Неужели его заставили?
— Ему приказали, дорогая Стюарт; он уехал из Парижа по приказанию.
— По чьему же приказанию?
— Угадайте.
— По приказанию короля?
— Именно.
— Вы мне открываете глаза.
— По крайней мере никому не говорите об этом.
— Вы знаете, что я сдержаннее иного мужчины. Итак, его услал король?
— Да.
— И в его отсутствие похищает его возлюбленную?
— Да, и представьте, бедный мальчик, вместо того чтобы благодарить короля, жалуется!
— Благодарить короля за похищение возлюбленной? Разве можно говорить такие вещи при женщинах, особенно при любовницах, государь?
— Но поймите меня: если бы та, кого отнимает у него король, была мисс Грефтон или мисс Стюарт, я разделял бы его мнение и даже считал бы, что он мало горюет; но это какая-то чахоточная хромоножка… К черту верность, как говорят во Франции! Отказываться от богатой ради бедной, от любящей ради обманщицы — да виданное ли это дело?
— А вы думаете, государь, что Мэри действительно хочет понравиться виконту?
— Думаю.
— Тогда виконт привыкнет к Англии. Мэри девушка с головой и добьется своего.
— Боюсь, дорогая мисс Стюарт, что этого не будет: только вчера виконт просил у меня разрешения уехать.
— И вы ему отказали?
— Еще бы: Людовик очень желает его отсутствия, и мое самолюбие теперь задето; я не хочу, чтобы говорили, будто я предложил этому юноше самую соблазнительную приманку в Англии…
— Вы очень любезны, государь, — с очаровательной улыбкой сказала мисс Стюарт.
— Разумеется, мисс Стюарт не в счет, — извинился король. — Она приманка королевская, и раз я попался на нее, надеюсь, никто другой на нее не покусится… Итак, я не хочу понапрасну строить глазки этому юнцу; он останется здесь и здесь женится, клянусь вам!..
— И надеюсь, когда женится, не станет сердиться на ваше величество, а будет вам признателен. Здесь все наперерыв стараются угодить ему, даже господин Бекингэм, который — невероятная вещь! — уступает ему дорогу.
— И даже мисс Стюарт, которая называет его очаровательным!
— Послушайте, государь, вы достаточно хвалили мне мисс Грефтон, разрешите же и мне похвалить немного господина де Бражелона. Кстати, с некоторых пор ваша доброта удивляет меня; вы думаете об отсутствующих, прощаете обиды, вы почти что совершенство. Откуда это?..
Карл II рассмеялся:
— Все это потому, что вы позволяете мне любить себя.
— О, наверное, есть еще и другая причина!
— Да, я оказываю любезность моему брату, Людовику Четырнадцатому.
— И это не все.
— Ну, если вы уж так добиваетесь, я вам скажу: Бекингэм поручил моему попечению этого юношу, сказав: «Государь, ради виконта де Бражелона я отказываюсь от мисс Грефтон; последуйте моему примеру».
— О, герцог — рыцарь, что и говорить!
— Полно! Теперь вы стали расхваливать Бекингэма. Кажется, вы намерены извести меня сегодня.
В этот момент в дверь постучали.
— Кто смеет беспокоить нас?
— Право, государь, — сказала Стюарт, — ваше «кто смеет» чересчур самонадеянно, и чтобы наказать вас…
Она сама подошла к двери и открыла ее.
— Ах, это курьер из Франции! Может быть, от моей сестры? — вскричал Карл.
— Да, государь, — поклонился лакей, — с чрезвычайным поручением.
— Пусть войдет поскорее, — приказал Карл.
Курьер вошел.
— У вас письмо от ее высочества герцогини Орлеанской?
— Да, государь, — отвечал курьер, — и настолько спешное, что я затратил только двадцать шесть часов на доставку его вашему величеству, причем потерял в Кале три четверти часа.
— Ваше усердие будет вознаграждено, — сказал король, вскрывая письмо.
Прочитав его, он расхохотался:
— Право, я ничего не понимаю.
И снова прочитал письмо.
Мисс Стюарт держалась почтительно, подавляя жгучее любопытство.
— Френсис, — обратился король к лакею, — велите угостить курьера и уложите его спать, а завтра у изголовья он найдет кошелек с пятьюдесятью луидорами.
— Государь!
— Ступай, друг мой, ступай! У моей сестры были основания торопить тебя; дело спешное.
И он расхохотался еще громче.
Курьер, камердинер и сама мисс Стюарт не знали, как держаться.
— Ах! — воскликнул король, откидываясь на спинку кресла. — Подумать только, что ты загнал… сколько лошадей?
— Двух.
— Двух лошадей, чтобы привезти это известие! Ступай, друг мой, ступай.
Курьер удалился в сопровождении камердинера.
Карл II подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, крикнул:
— Герцог Бекингэм, дорогой Бекингэм, идите скорее сюда!
Герцог поспешил на зов, но, увидев мисс Стюарт, остановился на пороге, не решаясь войти.
— Войди же, герцог, и запри за собой дверь.
Бекингэм повиновался и, видя, что король весел, с улыбкой подошел к нему.
— Ну, дорогой герцог, как твои дела с французом?
— Я почти в отчаянии, государь.
— Почему?
— Потому что очаровательная мисс Грефтон хочет выйти за него замуж, а он не желает жениться на ней.
— Да этот француз какой-то простак! — воскликнула мисс Стюарт. — Пусть он скажет да или нет . Нужно этому положить конец.
— Но вы знаете или должны знать, сударыня, — серьезно произнес герцог, — что господин де Бражелон любит другую.
— В таком случае, — заметил король, приходя на помощь мисс Стюарт, — пусть он попросту скажет нет.
— А я ему все время доказывал, что он поступает дурно, не говоря да !
— Значит, ты сообщил ему, что Лавальер его обманывает?
— Да, совершенно недвусмысленно.
— Что же он сказал в ответ?
— Так подпрыгнул, точно собирался перескочить Ла-Манш.
— Наконец-то он сделал хоть что-нибудь! — вздохнула мисс Стюарт. — И то хорошо.
— Но я удержал его, — продолжал Бекингэм, — я оставил его с мисс Мэри и надеюсь, что теперь он не уедет, как собирался.
— Он собирался ехать? — воскликнул король.
— Одно мгновение мне казалось, что никакими человеческими силами его невозможно будет удержать; но глаза мисс Мэри устремлены на него: он останется.
— Вот ты и ошибся, Бекингэм! — сказал король, снова расхохотавшись. — Этот несчастный обречен.
— Обречен на что?
— На то, чтобы быть обманутым или еще хуже: собственными глазами удостовериться в этом.
— На расстоянии и с помощью мисс Грефтон удар будет ослаблен.
— Ничуть; ему не придет на помощь ни расстояние, ни мисс Грефтон. Бражелон отправится в Париж через час.
Бекингэм вздрогнул, мисс Стюарт широко открыла глаза.
— Но ведь ваше величество знаете, что это невозможно. — пожал плечами герцог.
— Увы, дорогой Бекингэм, теперь невозможно обратное.
— Государь, представьте, что этот молодой человек — лев.
— Допустим.
— И что гнев его ужасен.
— Не спорю, друг мой.
— И если он увидит свое несчастье воочию, тем хуже для виновника этого несчастья.
— Очень может быть. Но что же делать?
— Будь этим виновником сам король, — вскричал Бекингэм, — я не поручился бы за его безопасность!
— О, у короля есть мушкетеры, — спокойно проговорил Карл. — Я знаю, что это такое: мне самому приходилось дожидаться в передней в Блуа. У него есть господин д’Артаньян. Вот это телохранитель! Я не побоялся бы двадцати разъяренных Бражелонов, если бы у меня было четверо таких стражей, как д’Артаньян!
— Все же, ваше величество, подумайте об этом, — настаивал Бекингэм.
— Вот смотри, — ответил Карл II, протягивая письмо герцогу, — и суди сам. Как бы ты поступил на моем месте?
Бекингэм взял письмо принцессы и медленно прочитал его, дрожа от волнения:
«Ради себя, ради меня, ради чести и благополучия всех немедленно отошлите во Францию виконта де Бражелона.
— Что ты на это скажешь, герцог?
— Ей-богу, ничего, — отвечал ошеломленный Бекингэм.
— Неужели ты посоветуешь мне, — с ударением произнес король, — не послушаться моей сестры, когда она так настойчиво просит меня?
— Боже сохрани, государь, и все же…
— Ты не прочитал приписки, герцог; она внизу, и я сам не сразу заметил ее, читай.
Герцог развернул лист и прочитал:
«Тысяча приветствий тем, кто меня любит».
Герцог побледнел и поник головой; листок задрожал в его пальцах, точно бумага превратилась в тяжелый свинец.
Король подождал с минуту и, видя, что Бекингэм молчит, заговорил:
— Итак, пусть он повинуется своей судьбе, как мы повинуемся нашей. Каждый должен перенести свою меру страданий: я уже отстрадал за себя и за своих; я нес двойной крест. Теперь к черту заботы! Пришли мне, герцог, этого дворянина.
Герцог открыл решетчатую дверь павильона и, показывая королю на Рауля и Мэри, которые шли бок о бок, проговорил:
— Ах, государь, какая это жестокость по отношению к бедной мисс Грефтон.
— Полно, полно, зови! — сказал Карл II, хмуря черные брови. — Как все здесь стали чувствительны! Право, мисс Стюарт вытирает себе глаза. Ах, проклятый француз!
Герцог позвал Рауля, а сам предложил руку мисс Грефтон.
— Господин де Бражелон, — начал Карл II, — не правда ли, третьего дня вы просили у меня разрешения вернуться в Париж?
— Да, государь, — отвечал Рауль, озадаченный таким вступлением.
— И я вам отказал, дорогой виконт?
— Да, государь.
— Что же, вы остались недовольны мной?
— Нет, государь, потому что, конечно, у вашего величества были основания для отказа. Ваше величество так мудры и так добры, что все ваши решения надо принимать с благодарностью.
— Я как будто сослался при этом на то, что французский король не выражал желания отозвать вас из Англии?
— Да, государь. Вы действительно сказали это.
— Я передумал, господин де Бражелон; король действительно не назначил срока для вашего возвращения, но он просил меня позаботиться о том, чтобы вы не скучали в Англии; очевидно, вам здесь не нравится, если вы просите меня отпустить вас?
— Я не говорил этого, государь.
— Да, но ваша просьба означала, что жить в другом месте вам было бы приятнее, чем здесь.
В это мгновение Рауль обернулся к двери, где, прислонившись к косяку, рядом с герцогом Бекингэмом, стояла бледная и расстроенная мисс Грефтон.
— Вы не отвечаете? — продолжал Карл. — Старая пословица говорит: «Молчание — знак согласия». Итак, господин де Бражелон, я могу удовлетворить ваше желание; вы можете, когда захотите, уехать во Францию. Я вам разрешаю.
— Государь!.. — воскликнул Рауль.
— Ах! — вздохнула Мэри, сжимая руку Бекингэма.
— Сегодня же вечером вы можете быть в Дувре, — продолжал король, — прилив начинается в два часа ночи.
Ошеломленный Рауль пробормотал несколько слов, похожих не то на благодарность, не то на извинение.
— Прощайте, господин де Бражелон. Желаю вам всех благ, — произнес король, поднимаясь с места. — Сделайте мне одолжение, возьмите на память этот брильянт, который я предназначал для свадебного подарка.
Мисс Грефтон, казалось, сейчас упадет в обморок.
Принимая брильянт, Рауль чувствовал, что его колени дрожат. Он сказал несколько приветственных слов королю и мисс Стюарт и подошел к Бекингэму, чтобы проститься с ним.
Воспользовавшись этим моментом, король удалился.
Герцог хлопотал около мисс Грефтон, стараясь ободрить ее.
— Попросите его остаться, мадемуазель, умоляю вас, — шептал Бекингэм.
— Напротив, я прошу его уехать, — отвечала, собравшись с силами, мисс Грефтон, — я не из тех женщин, у которых гордость сильнее всех других чувств. Если его любят во Франции, пусть он возвращается туда и благословляет меня за то, что я посоветовала ему ехать за своим счастьем. Если его, напротив, там не любят, пусть он вернется, я буду любить его по-прежнему, и его несчастья нисколько не умалят его в моих глазах. На гербе моего рода начертан девиз, который запечатлелся в моем сердце: «Habenti parum, egenti cuncta» — «Имущему — мало, нуждающемуся — все».
— Сомневаюсь, мой друг, — вздохнул Бекингэм, — что вы найдете во Франции сокровище, равное тому, которое оставляете здесь.
— Я думаю, или по крайней мере надеюсь, — угрюмо проговорил Рауль, — что моя любимая достойна меня; если же меня постигнет разочарование, как вы пытались дать понять мне, герцог, я вырву из сердца свою любовь, хотя бы вместе с нею пришлось вырвать сердце.
Мэри Грефтон взглянула на Рауля с невыразимым состраданием. Рауль печально улыбнулся.
— Мадемуазель, — сказал он, — брильянт, подаренный мне королем, предназначался для вас, позвольте же мне поднести его вам; если я женюсь во Франции, пришлите его мне, если не женюсь, оставьте у себя.
«Что он хочет сказать?» — подумал Бекингэм, в то время как Рауль почтительно пожимал похолодевшую руку Мэри.
Мисс Грефтон поняла устремленный на нее взгляд герцога.
— Если бы это кольцо было обручальное, — молвила она, — я бы его не взяла.
— А между тем вы предлагаете ему вернуться к вам.
— Ах, герцог, — со слезами воскликнула девушка, — такая женщина, как я, не создана для утешения таких людей, как он!
— Значит, вы думаете, что он не вернется?
— Нет, не вернется, — задыхающимся голосом произнесла мисс Грефтон.
— А я утверждаю, что во Франции его ждет разрушенное счастье, утраченная невеста… даже запятнанная честь… Что же останется у него, кроме вашей любви? Отвечайте, Мэри, если вы знаете ваше сердце!
Мисс Грефтон оперлась на руку Бекингэма и, пока Рауль стремглав убегал по липовой аллее, тихонько пропела стихи из «Ромео и Джульетты»:
Нужно уехать и жить
Или остаться и умереть.
Когда замерли звуки ее голоса, Рауль скрылся. Мисс Грефтон вернулась к себе, бледная и молчаливая.
Воспользовавшись присутствием курьера, доставившего письмо королю, Бекингэм написал принцессе и графу де Гишу.
Король был прав. В два часа ночи, вместе с началом прилива, Рауль садился на корабль, отходивший во Францию.
XLVI. Сент-Эньян следует совету Маликорна
Король уделял много внимания портрету Лавальер, так как ему очень хотелось, чтобы портрет вышел получше и чтобы сеансы тянулись подольше. Нужно было видеть, как он следил за кистью, ждал окончания той или иной детали, появления того или другого тона; он то и дело предлагал художнику различные изменения, на которые тот почтительно соглашался.
А когда художник, по совету Маликорна, немного запаздывал и де Сент-Эньян куда-то отлучался, нужно было видеть, только никто этого не видел, красноречивое молчание, соединявшее в одном вздохе две души, жаждавшие покоя и мечтательности. Минуты были волшебные. Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием.
Когда в прихожей раздавался шум — приходил художник или с извинениями возвращался де Сент-Эньян, — король начинал что-нибудь спрашивать. Лавальер быстро отвечала ему, и их глаза говорили де Сент-Эньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век.
Словом, Маликорн, этот философ поневоле, сумел внушить королю неутолимую страсть к его возлюбленной.
Страхи Лавальер оказались напрасными. Никто не догадывался, что днем она на два, на три часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой. Ее посетители, перед тем как войти, стучались. Изобретательный Маликорн придумал акустический аппарат, при помощи которого Лавальер, оставаясь в комнате де Сент-Эньяна, могла слышать стук в дверь своей комнаты. Поэтому, не прибегая к помощи осведомительниц, она возвращалась к себе, вызывая, может быть, у своих посетителей некоторые подозрения, но победоносно рассеивая их даже у самых отъявленных скептиков.
Когда на другой день Маликорн явился к де Сент-Эньяну узнать, как прошел сеанс, то графу пришлось сознаться, что предоставленная королю на четверть часа свобода подействовала на его настроение как нельзя лучше.
— Нужно будет увеличить дозу, — заметил Маликорн, — но понемногу, пусть желание будет обнаружено более явно.
Желание было обнаружено так явно, что на четвертый день художник сложил свои вещи, так и не дождавшись возвращения де Сент-Эньяна. А граф, вернувшись, увидел на лице Лавальер тень досады, которую она была не в силах подавить. Король был еще менее сдержан; он выразил свое недовольство весьма красноречивым движением плеч. Тогда Лавальер покраснела.
«Ладно, — мысленно произнес де Сент-Эньян. — Сегодня господин Маликорн будет в восторге».
Действительно, Маликорн пришел в восторг.
— Ну, понятно, — сказал он графу, — мадемуазель де Лавальер надеялась, что вы опоздаете по крайней мере на десять минут.
— А король надеялся — не меньше как на полчаса, дорогой Маликорн.
— Вы были бы плохим слугой короля, — заметил Маликорн, — если бы отказали его величеству в этом получасе.
— А как же художник? — возразил де Сент-Эньян.
— Я займусь им сам, — отвечал Маликорн, — дайте мне только присмотреться к выражению лиц и сообразоваться с обстоятельствами. Это мои волшебные средства: колдуны определяют высоту солнца и звезд астролябией, а мне достаточно взглянуть, есть ли круги под глазами, опущены или приподняты углы рта.
— Так наблюдайте внимательнее!
— Не беспокойтесь.
У хитрого Маликорна было довольно времени наблюдать. Ибо в тот же вечер король отправился к принцессе с королевами и был у нее так угрюм, вздыхал так тяжело, смотрел на Лавальер такими томными глазами, что ночью Маликорн сказал Монтале:
— Завтра.
И отправился к художнику на улицу Жарден-Сен-Поль с просьбой отложить сеанс на два дня.
Когда Лавальер, уже освоившаяся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де Сент-Эньяна не было дома. Король, по обыкновению, ждал ее у лестницы с букетом в руках; когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная Лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась.
Они сели. Людовик поместился подле подушек, на которые опустилась Лавальер, и, положив голову на колени своей возлюбленной, смотрел на нее. Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Луиза с упоением глядела на него. И вот из ее кротких и чистых глаз полилось пламя, потоки которого все глубже проникали в сердце короля, сначала согревая, а затем сжигая его.
Разгоряченный прикосновением к ее трепещущим коленям, замирая от счастья, когда рука Луизы опускалась на его волосы, король каждую минуту ждал появления художника или де Сент-Эньяна. В этом печальном ожидании он пытался иногда прогонять искушение, вливавшееся в его кровь, пытался усыпить сердце и чувство, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью.
Но дверь не открывалась. Не появлялись ни де Сент-Эньян, ни художник; портьеры не шевелились. Таинственная, полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке. Побежденный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам Лавальер; словно обезумев, она конвульсивно прижала руки к губам влюбленного короля.
Людовик упал на колени, и так как голова Лавальер по-прежнему была опущена, то его лоб оказался на уровне губ Луизы, и она в экстазе коснулась робким поцелуем ароматных волос, ласкавших ее щеки. Король заключил ее в объятия, и они обменялись тем первым жгучим поцелуем, который превращает любовь в бред.
В этот день ни де Сент-Эньян, ни художник так и не пришли.
Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувство, вливающее в кровь тонкий яд и навевающее легкий, похожий на счастье сон, снизошло на них, подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей.
Среди этой дремоты, полной сладких грез, непрерывный шум в верхнем этаже встревожил было Лавальер, но не способен был пробудить ее. Но так как шум продолжался и становился все явственнее, то он наконец вернул к действительности опьяненную любовью девушку. Она испуганно вскочила:
— Кто-то меня ждет наверху. Людовик, Людовик, разве вы не слышите?
— Разве мне не приходится ждать вас? — нежно остановил ее король. — Пусть и другие подождут.
Она тихо покачала головой и проговорила со слезами:
— Счастье украдкой… Моя гордость должна молчать, как и мое сердце.
Шум возобновился.
— Я слышу голос Монтале, — сказала Лавальер и стала быстро подниматься по лестнице.
Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платья.
— Да, да, — повторяла Лавальер, уже наполовину подняв люк, — да, это голос Монтале. Должно быть, случилось что-нибудь серьезное.
— Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорей.
— Только не сегодня. Прощайте, прощайте!
И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась.
Действительно, ее ждала бледная и взволнованная Монтале.
— Скорее, скорее, — повторяла она, — он идет.
— Кто, кто идет?
— Он! Я это предвидела.
— Кто такой «он»? Да не томи меня!
— Рауль, — прошептала Монтале.
— Да, это я! — донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы.
Лавальер громко вскрикнула и отступила назад.
— Это я, я дорогая Луиза! — вбегая, воскликнул Рауль. — О, я знал, что вы все еще любите меня.
Лавальер сделала испуганный жест, хотела что-то сказать, но могла произнести только:
— Нет, нет!
И упала в объятия Монтале, шепотом повторяя:
— Не подходите ко мне!
Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге.
Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтале проговорила:
— Ах, какая неосторожная! Даже не закрыла люк!
И, быстро подбежав к ширмам, подвинула их и собиралась закрыть люк. Но в это мгновение из люка выскочил король, услышавший крик Лавальер и поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтале, уже потерявшую голову.
Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтале попыталась остановить его, но напрасно. Покинув Лавальер, король выбежал из комнаты. Однако Рауль был уже далеко, и Людовик увидел только тень, скрывшуюся за поворотом коридора.
XLVII. Старые друзья
В то время как при дворе каждый был занят своим делом, какая-то фигура незаметно пробиралась по Гревской площади в уже знакомый нам дом: в день мятежа д’Артаньян осаждал его.
Фасад дома выходил на площадь Бодуайе. Этот довольно большой дом, окруженный садами и опоясанный со стороны улицы Сен-Жан скобяными лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключен как бы в тройную ограду из камня, шума и зелени, как набальзамированная мумия в тройной гроб.
Упомянутый нами человек шел твердым шагом, хотя был не первой молодости. При виде его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшей этот плащ, всякий признал бы в нем искателя приключений, а рассмотрев внимательно его закрученные усы, тонкую и гладкую кожу щеки, которая виднелась из-под его широкополой шляпы, как было не предположить, что его приключения любовные?
Когда незнакомец вошел в дом, на колокольне Сен-Жерве часы пробили восемь. Через десять минут в ту же дверь постучалась дама, пришедшая в сопровождении вооруженного лакея; дверь тотчас же открыла какая-то старуха.
Войдя, дама откинула вуаль. Она уже не была красавицей, но еще сохраняла привлекательность; она уже не была молода, но была еще подвижна и представительна. Богатым и нарядным туалетом она маскировала тот возраст, который только Нинон де Ланкло с улыбкой выставляла напоказ.
Едва она вошла, как описанный нами шевалье приблизился к ней и протянул руку.
— Здравствуйте, дорогая герцогиня.
— Здравствуйте, дорогой Арамис.
Шевалье провел ее в элегантно убранную гостиную, где на стеклах высоких окон догорали последние солнечные лучи, пробившиеся между темными вершинами елей.
Шевалье и дама подсели друг к другу. Ни у одного из собеседников не было желания потребовать света. Они с таким же удовольствием погрузились в сумрак, с каким оба погрузили бы друг друга в забвение.
— Шевалье, — заговорила герцогиня, — вы не подавали никаких признаков жизни со времени нашего свидания в Фонтенбло, и, сознаюсь, ваше появление в день смерти францисканца и ваша причастность к некоторым тайнам вызвали у меня величайшее изумление, какое я когда-либо испытывала.
— Я могу вам объяснить мое появление на похоронах и мою причастность к тайнам, — ответил Арамис.
— Но прежде всего, — с живостью перебила его герцогиня, — поговорим немного о себе. Ведь мы старые друзья.
— Да, сударыня, и если будет угодно богу, мы останемся друзьями хотя и не надолго, но, во всяком случае, до смерти.
— Я в этом уверена, шевалье, и мое посещение служит вам доказательством.
— У нас нет больше, герцогиня, прежних интересов, — сказал Арамис, нисколько не стараясь сдержать улыбку, потому что в сумерках невозможно было заметить, потеряла ли эта улыбка свою прежнюю свежесть и привлекательность.
— Зато теперь появились другие интересы, шевалье. У каждого возраста свои: мы поймем друг друга не хуже, чем в былое время, поэтому давайте поговорим. Хотите?
— Я к вашим услугам, герцогиня. Простите, как вы узнали мой адрес? И зачем?
— Зачем? Я вам уже говорила. Любопытство. Мне хотелось знать, чем вы были для францисканца, с которым я вела дела и который так странно умер. Во время нашего свидания в Фонтенбло, на кладбище, у свежей могилы, мы оба были так взволнованы, что ничего не могли сказать друг другу.
— Да, сударыня.
— Расставшись с вами, я стала очень жалеть. Я всегда была очень любопытна; вы знаете, по-моему, госпожа де Лонгвиль немного похожа на меня в этом отношении, не правда ли?
— Не знаю, — сдержанно отвечал Арамис.
— Итак, я пожалела, — продолжала герцогиня, — что мы с вами не поговорили на кладбище. Мне показалось, что старым друзьям нехорошо вести себя так, и я стала искать случая встретиться с вами, чтобы засвидетельствовать вам свою преданность и показать, что бедная покойница, Мари Мишон, оставила на земле тень, хранящую много воспоминаний.
Арамис нагнулся и любезно поцеловал руку герцогини.
— Вероятно, вам было трудно отыскать меня?
— Да, — с досадой отвечала она, видя, что Арамис меняет тему разговора. — Но я знала, что вы друг господина Фуке, и стала искать вас возле господина Фуке.
— Друг господина Фуке? Это преувеличение, сударыня! — воскликнул шевалье. — Бедный священник, облагодетельствованный щедрым покровителем, верное и признательное сердце — вот все, чем я являюсь для господина Фуке.
— Он вас сделал епископом?
— Да, герцогиня.
— Но ведь это для вас отставка, прекрасный мушкетер.
«Так же, как для тебя политические интриги», — подумал Арамис.
— И вы раздобыли нужные вам сведения? — прибавил он вслух.
— Весьма легко. Вы были с ним в Фонтенбло. Вы совершили маленькое путешествие в свою епархию, то есть в Бель-Иль.
— Нет, вы ошибаетесь, сударыня, — сказал Арамис, — моя епархия Ванн.
— Это самое я и хотела сказать. Я думала только, что Бель-Иль…
— Владение господина Фуке, вот и все.
— Ах, мне говорили, что Бель-Иль укреплен. А я знаю, что вы военный, мой друг.
— Я все позабыл, с тех пор как служу церкви, — отвечал задетый Арамис.
— Итак, я узнала, что вы вернулись из Ванна, и послала к своему другу, графу де Ла Фер.
— Вот как!
— Но он человек скрытный: он мне ответил, что не знает вашего адреса.
«Атос всегда верен себе, — подумал епископ, — хорошее всегда хорошо».
— Тогда… Вы знаете, что я не могу показываться здесь и что вдовствующая королева все еще гневается на меня.
— Да, меня это удивляет.
— О, на это есть много причин… Итак, я принуждена прятаться. К счастью, я встретила господина д’Артаньяна, одного из ваших прежних друзей, не правда ли?
— Моего теперешнего друга, герцогиня.
— Он-то и дал мне сведения; он послал меня к господину де Безмо, коменданту Бастилии.
Арамис вздрогнул. И от его собеседницы не укрылось в темноте, что глаза его загорелись.
— Господину де Безмо! — воскликнул он. — Почему же д’Артаньян послал вас к господину де Безмо?
— Не знаю.
— Что это значит? — сказал епископ, напрягая все свои силы, чтобы с честью выдержать борьбу.
— Господин де Безмо чем-то обязан вам, по словам д’Артаньяна.
— Это правда.
— А ведь люди всегда знают адрес своих кредиторов и своих должников.
— Тоже правда. И Безмо помог вам?
— Да. Он направил меня в Сен-Манде, куда я и послала письмо.
— Вот оно. И оно драгоценно для меня, так как я обязан ему удовольствием видеть вас.
Герцогиня, довольная тем, что ей удалось так безболезненно коснуться всех деликатных пунктов, облегченно вздохнула.
Арамис не вздыхал.
— Мы остановились на вашем посещении Безмо.
— Нет, — засмеялась она, — дальше.
— Значит, на вашем недовольстве вдовствующей королевой?
— Нет, еще дальше, — возразила герцогиня, — на отношениях… Это так просто. Вы ведь знаете, что я живу в Брюсселе с господином де Леком, который почти что мой муж?
— Да.
— И знаете, что мои дети разорили и обобрали меня?
— Какой ужас, герцогиня!
— Да, это ужасно! Мне пришлось добывать средства к существованию, стараться не впасть в нищету.
— Понятно.
— Я не пользовалась кредитом, у меня не было покровителей.
— Между тем как сами вы стольким оказывали покровительство, — сказал Арамис, лукаво улыбаясь.
— Всегда так бывает, шевалье. В это время я встретилась с испанским королем.
— Вот как!
— Который, согласно обычаю, приезжал во Фландрию назначить генерала иезуитского ордена.
— Разве существует такой обычай?
— А вы не знали?
— Простите, я был рассеян.
— А вам следовало знать об этом; ведь вы были так близки с францисканцем.
— Вы хотите сказать: с генералом иезуитского ордена?
— Именно… Итак, я встретилась с испанским королем. Он желал мне добра, но не мог ничего для меня сделать. Впрочем, он дал мне и Леку рекомендательные письма и назначил пенсию из средств ордена.
— Иезуитского?
— Да. Ко мне был прислан генерал, то есть я хочу сказать — францисканец.
— Прекрасно.
— И чтобы согласовать положение вещей со статутом ордена, было признано, что я оказываю ордену услуги. Вы знаете, что существует такое правило?
— Не знал.
Герцогиня де Шеврез умолкла и старалась разглядеть выражение лица Арамиса. Но было совсем темно.
— Словом, есть такое правило, — продолжала она. — Нужно было, следовательно, устроить так, будто я приношу ордену какую-нибудь пользу. Я предложила совершать поездки для ордена, и меня сделали его агентом. Вы понимаете, что это пустая формальность и устроено только для виду.
— Чудесно.
— Вот таким-то образом я получила весьма приличную пенсию.
— Боже мой, герцогиня! Каждая ваша новость для меня удар кинжала. Вам приходится получать пенсию от иезуитов!
— Нет, шевалье, от Испании.
— Сознайтесь, герцогиня, что это одно и то же.
— Нет, совсем нет.
— Но ведь от вашего прежнего состояния у вас остается Дампьер. И это весьма недурно.
— Да, но Дампьер заложен, обременен долгами и разорен, как и его владелица.
— И вдовствующая королева смотрит на все это равнодушно? — сказал Арамис, с любопытством вглядываясь в лицо герцогини, но не видя ничего, кроме темноты.
— Да, она все забыла.
— Вы как будто пробовали вернуть ее благорасположение, герцогиня?
— Да. Но по какой-то необъяснимой случайности молодой король унаследовал антипатию, которую питал ко мне его дорогой батюшка. Ах, вы мне скажете, что теперь я могу внушать только ненависть, что я перестала быть женщиной, которую любят!
— Дорогая герцогиня, перейдем, пожалуйста, поскорее к вопросу, который вас привел сюда; мне кажется, мы можем быть полезны друг другу.
— Я тоже так думала. Итак, я отправилась в Фонтенбло с двойной целью. Прежде всего, меня пригласил туда известный вам францисканец… Кстати, как вы с ним познакомились? Я вам рассказала о себе, теперь ваша очередь.
— Я познакомился с ним очень просто, герцогиня. Я изучал с ним богословие в Парме; мы подружились; но дела, путешествия, война разлучили нас.
— Вы знали, что он генерал иезуитского ордена?
— Догадывался.
— Однако какой же странный случай привел также и вас в гостиницу, где собрались агенты ордена?
— Случай самый простой, — спокойно отвечал Арамис. — Я приехал в Фонтенбло, к господину Фуке, чтобы попросить аудиенцию у короля. Я встретил по пути бедного умирающего и узнал его. Остальное вам известно: он умер у меня на руках.
— Да, но оставив вам на небе и на земле такую большую власть, что от его имени вы сделали весьма важные распоряжения.
— Он действительно дал мне несколько поручений.
— И относительно меня?
— Я уже сказал. Выплатить вам двенадцать тысяч ливров. Кажется, я дал вам необходимую подпись для их получения. Разве вы их не получили?
— Получила, получила! Но, говорят, дорогой прелат, вы даете приказания с такой таинственностью и с таким царственным величием, что все считают вас преемником дорогого покойника.
Арамис покраснел от досады. Герцогиня продолжала:
— Я осведомилась об этом у испанского короля, и он рассеял мои сомнения на этот счет. Согласно статуту ордена, каждый генерал иезуитов должен быть испанцем. Вы не испанец и не были назначены испанским королем.
Арамис сказал назидательным тоном:
— Видите, герцогиня, вы допустили ошибку, и испанский король разоблачил ее.
— Да, дорогой Арамис. Но у меня явилась еще одна мысль.
— Какая?
— Вы знаете, что я понемножку думаю обо всем.
— О да, герцогиня!
— Вы говорите по-испански?
— Каждый участник Фронды знает испанский язык.
— Вы жили во Фландрии?
— Три года.
— И провели в Мадриде?..
— Пятнадцать месяцев.
— Значит, вы имеете право принять испанское подданство, когда вам будет угодно.
— Вы думаете? — спросил Арамис так простодушно, что герцогиня была введена в заблуждение.
— Конечно… Два года жизни и знание языка — необходимые правила. У вас три с половиной года… пятнадцать месяцев лишних.
— К чему вы это говорите, дорогая герцогиня?
— Вот к чему: я в хороших отношениях с испанским королем.
«И я в недурных», — подумал Арамис.
— Хотите, — продолжала герцогиня, — я попрошу короля сделать вас преемником францисканца?
— О, герцогиня!
— Может быть, вы уже и сейчас его преемник? — спросила она.
— Нет, даю вам слово.
— Ну, так я могу оказать вам эту услугу.
— Почему же вы не оказали ее господину де Леку, герцогиня? Он человек талантливый, и вы его любите.
— Да, конечно; но не вышло. Словом, оставим Лека; хотите, я окажу эту услугу вам?
— Нет, благодарю вас, герцогиня.
Она замолчала.
«Он назначен», — подумала она.
— После этого отказа, — продолжала герцогиня де Шеврез, — я уже не решаюсь обращаться к вам с просьбой.
— Помилуйте, я всегда в вашем распоряжении!
— Зачем я буду вас просить, если у вас нет власти исполнить мою просьбу?
— Все же мне, может быть, удастся что-нибудь сделать.
— Мне нужны деньги на восстановление Дампьера.
— А! — холодно произнес Арамис. — Деньги?.. Сколько же вам нужно, герцогиня?
— Порядочно.
— Жаль. Вы знаете, что я не генерал.
— В таком случае у вас есть друг, который, вероятно, очень богат: господин Фуке.
— Господин Фуке? Сударыня, он почти разорен.
— Мне говорили об этом, но я не хотела верить.
— Почему, герцогиня?
— Потому что у меня есть несколько писем кардинала Мазарини — вернее, не у меня, а у Лека, — в которых говорится об очень странных счетах.
— О каких счетах?
— По части проданных рент, произведенных займов, хорошенько не помню. Во всяком случае, судя по письмам Мазарини, суперинтендант позаимствовал из государственной казны миллионов тридцать. Дело серьезное.
Арамис так крепко сжал кулаки, что ногти вонзились в ладони.
— Как! — воскликнул он. — У вас есть такие письма и вы не сказали о них господину Фуке?
— Такие вещи держат про запас, — возразила герцогиня. — Приходит нужда, и их вытаскивают на свет божий.
— Разве нужда уже пришла? — спросил Арамис.
— Да, мой милый.
— И вы собираетесь предъявить эти письма господину Фуке?
— Нет, я предпочитаю поговорить о них с вами.
— Видно, вам очень нужны деньги, бедняжка, раз вы думаете о таких вещах; вы так мало ценили прозу господина Мазарини. Кроме того, — холодно продолжал Арамис, — вам самой, вероятно, тяжело прибегать к этому средству. Жестокое средство!
— Если бы я хотела сделать зло, а не добро, — сказала герцогиня де Шеврез, — я не стала бы обращаться к генералу ордена или к господину Фуке за пятьюстами тысячами ливров, которые мне нужны…
— Пятьюстами тысячами ливров!
— Не больше. Вы находите, что это много? Восстановление Дампьера обойдется не дешевле.
— Да, сударыня.
— Итак, я не стала бы обращаться к названным лицам, а отправилась бы к своему старому другу, вдовствующей королеве; письма ее супруга, синьора Мазарини, послужили бы мне рекомендацией. Я попросила бы у нее эту безделицу, сказав: «Ваше величество, я хочу иметь честь принять вас в Дампьере; позвольте мне восстановить Дампьер».
Арамис не ответил ни слова.
— О чем вы задумались? — спросила герцогиня.
— Я складываю в уме, — произнес Арамис.
— А господин Фуке вычитает. Я же пробую умножать. Какие мы все чудесные математики! Как хорошо могли бы мы столковаться.
— Разрешите мне подумать, — попросил Арамис.
— Нет… После такого вступления между людьми, подобными нам с вами, может быть сказано только «да» или «нет», и притом немедленно.
«Это ловушка, — подумал епископ, — немыслимо, чтобы такая женщина была принята Анной Австрийской».
— Ну и что же? — спросила герцогиня.
— Я был бы очень удивлен, если бы в данный момент у господина Фуке нашлось пятьсот тысяч ливров.
— Значит, не стоит об этом говорить, — усмехнулась герцогиня, — и Дампьер пусть сам восстанавливается, как хочет.
— Неужели вы в таком стесненном положении?
— Нет, я никогда не бываю в стесненном положении.
— И королева, конечно, сделает для вас то, чего не в силах сделать суперинтендант.
— О, конечно… Скажите, вы не желаете, чтобы я лично поговорила об этих письмах с господином Фуке?
— Как вам будет угодно, герцогиня, но господин Фуке либо чувствует себя виновным, либо не чувствует. Если он чувствует, то он настолько горд, что не сознается; если же не чувствует за собой вины, эта угроза очень его обидит.
— Вы всегда рассуждаете, как ангел.
И герцогиня поднялась с места.
— Итак, вы собираетесь донести на господина Фуке королеве? — заключил Арамис.
— Донести?.. Какое мерзкое слово. Нет, я не стану доносить, дорогой друг; вы слишком хорошо знакомы с политикой, чтобы не знать, как совершаются подобные вещи. Я предложу свои услуги партии, враждебной господину Фуке. Вот и все.
— Вы правы.
— А в борьбе партий годится всякое оружие.
— Конечно.
— Когда у меня восстановятся добрые отношения с вдовствующей королевой, я могу стать очень опасной.
— Это ваше право, герцогиня.
— Я им воспользуюсь, мой милый.
— Вам небезызвестно, что господин Фуке в прекрасных отношениях с испанским королем, герцогиня?
— Я это предполагала.
— Если вы поднимете борьбу партий, как вы выражаетесь, господин Фуке начнет с вами борьбу другого рода.
— Что поделаешь!
— Ведь он тоже вправе прибегнуть к этому оружию, как вы думаете?
— Конечно.
— И так как он хорош с испанским королем, он и воспользуется этой дружбой.
— Вы хотите сказать, что он будет также в добрых отношениях с генералом ордена иезуитов, дорогой Арамис?
— Это может случиться, герцогиня.
— И тогда меня лишат пенсии, которую я получаю от иезуитов?
— Боюсь, что лишат.
— Как-нибудь выкрутимся. Разве после Ришелье, после Фронды, после изгнания герцогиня де Шеврез может чего-нибудь испугаться, дорогой мой?
— Вы ведь знаете, что пенсия достигает сорока восьми тысяч ливров в год.
— Увы! Знаю.
— Кроме того, во время борьбы партий достанется также и друзьям неприятеля.
— Вы хотите сказать, что пострадает бедняга Лек?
— Почти наверное, герцогиня.
— О, он получает только двенадцать тысяч ливров.
— Да, но испанский король — особа влиятельная; по наущению господина Фуке он может засадить господина Лека в крепость.
— Я не очень боюсь. этого, мой милый, потому что, примирившись с Анной Австрийской, я добьюсь, чтобы Франция потребовала освобождения Лека.
— Допустим. Тогда вам будет угрожать другая опасность.
— Какая же? — спросила герцогиня в притворном страхе.
— Вы знаете, что человек, сделавшийся агентом ордена, не может так просто порвать с ним. Тайны, в которые он мог быть посвящен, опасны: они приносят несчастье человеку, узнавшему их.
Герцогиня задумалась.
— Это серьезнее, — проговорила она, — надо все взвесить.
И, несмотря на полный мрак, Арамис почувствовал, как в его сердце вонзился, подобно раскаленному железу, горящий взгляд собеседницы.
— Давайте подведем итоги, — сказал Арамис, который с этой минуты начал держаться настороже и сунул руку под камзол, где у него был спрятан стилет.
— Вот именно, подведем итоги: добрые счеты создают добрых друзей.
— Лишение вас пенсии…
— Сорок восемь тысяч ливров да двенадцать тысяч ливров пенсии Лека составляют шестьдесят тысяч ливров; вы это хотите сказать, да?
— Да, это самое. Я спрашиваю, чем вы их замените?
— Пятьюстами тысячами ливров, которые я получу от королевы.
— А может быть, и не получите.
— Я знаю средство получить их, — бросила герцогиня.
При этих словах Арамис насторожился. После этой оплошности герцогини Арамис был до такой степени начеку, что то и дело одерживал верх, а его противница теряла преимущество.
— Хорошо, я допускаю, что вы получите эти деньги, — продолжал он, — все же вы много потеряете: вы будете получать по сто тысяч франков пенсии вместо шестидесяти тысяч ливров в продолжение десяти лет.
— Нет, эти убытки я буду терпеть только во время министерства господина Фуке, а оно продлится не более двух месяцев.
— Вот как! — воскликнул Арамис.
— Видите, как я откровенна.
— Благодарю вас, герцогиня. Но напрасно вы полагаете, что после падения господина Фуке орден будет снова выплачивать вам пенсию.
— Я знаю средство заставить орден быть щедрым точно так же, как знаю средство заставить вдовствующую королеву раскошелиться.
— В таком случае, герцогиня, нам всем приходится опустить флаг перед вами. Победа за вами, триумф за вами! Будьте милостивы, прошу вас. Трубите отбой!
— Как можете вы, — продолжала герцогиня, не обратив внимания на иронию Арамиса, — остановиться перед несчастными пятьюстами тысячами ливров, когда дело идет об избавлении вашего друга… Простите, вашего покровителя от неприятностей, причиняемых борьбою партий.
— Вот почему, герцогиня: после получения вами пятисот тысяч ливров господин де Лек потребует своей доли, тоже в пятьсот тысяч ливров, не правда ли? А после вас и господина де Лека наступит очередь и ваших детей, ваших бедняков и мало ли чья еще, тогда как письма, как бы они ни компрометировали, не стоят трех или четырех миллионов. Ей-богу, герцогиня, брильянтовые подвески французской королевы были дороже этих лоскутков бумаги, и все же они не стоили и четверти того, что вы спрашиваете!
— Вы правы, вы правы, но купец запрашивает за свой товар, сколько ему угодно. Покупатель волен взять или отказаться.
— Хотите, герцогиня, я вам открою, почему я не куплю ваших писем?
— Скажите.
— Ваши письма Мазарини подложны.
— Полно!
— Конечно. Ведь было бы по меньшей мере странно, если бы вы продолжали вести с кардиналом интимную переписку после того, как он поссорил вас с королевой; это пахло бы страстью, шпионажем… ей-богу, не решаюсь произнести нужного слова.
— Не стесняйтесь.
— Угодничанием.
— Все это верно; но верно также и то, что написано в письмах.
— Клянусь вам, герцогиня, эти письма не принесут вам никакой пользы при обращении к королеве.
— Принесут, будьте уверены.
«Пой, птичка, пой! — подумал Арамис. — Шипи, змея».
Но герцогиня уже направилась к двери.
Арамис готовил для нее сюрприз… Проклятие, которое бросает побежденный, идущий за колесницей триумфатора.
Он позвонил. В гостиную внесли свечи, ярко осветившие поблекшее лицо герцогини. Долгим ироническим взглядом посмотрел Арамис на бледные, иссохшие щеки, на глаза, горевшие под воспаленными веками, на тонкие губы, старательно закрывавшие черные и редкие зубы.
Он умышленно выставил вперед стройную ногу, грациозно нагнул гордую голову и улыбнулся, чтобы показать блестевшие при свете зубы. Постаревшая кокетка поняла его замысел: она стояла как раз против зеркала, которое благодаря контрасту убийственно резко подчеркнуло дряхлость, так заботливо скрываемую ею.
Неровной и тяжелой походкой она поспешно удалилась, даже не ответив на поклон Арамиса, который был сделан им с гибкостью и грацией былого мушкетера. Поклонившись, Арамис, как зефир, скользнул по паркету, чтобы проводить ее.
Герцогиня де Шеврез подала знак своему рослому лакею, вооруженному мушкетом, и покинула дом, где такие нежные друзья не могли столковаться, потому что слишком хорошо поняли друг друга.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления