Онлайн чтение книги
Повесть о Гэндзи
Вечерний туман
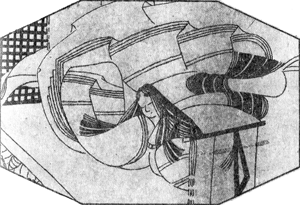
Основные персонажи
Гэндзи, 50 лет
Удайсё (Югири), 19 лет, – сын Гэндзи
Принцесса с Первой линии, Вторая принцесса (Отиба), – дочь имп. Судзаку, вдова Касиваги
Миясудокоро – мать принцессы с Первой линии
Госпожа Северных покоев (Кумои-но кари), 31 год, – дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), супруга Югири
Государь-монах (имп. Судзаку) – старший брат Гэндзи, отец Второй и Третьей принцесс
Госпожа Восточных покоев (Ханатирусато) – бывшая возлюбленная Гэндзи
Госпожа Весенних покоев (Мурасаки) – супруга Гэндзи
Нёго Кокидэн – дочь Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), супруга имп. Рэйдзэй
Куродо-но сёсё – сын Вышедшего в отставку министра (То-но тюдзё), младший брат Касиваги
То-найси-но сукэ – дочь Корэмицу, возлюбленная Югири
Удайсё, славившийся в мире степенным нравом и немало этим гордившийся, с недавнего времени беспрестанно помышлял о принцессе с Первой линии. Он часто бывал в ее доме, полагая, что воля покойного является достаточным для того основанием. С каждым днем, с каждой луной росло его чувство к ней, пока наконец не превратилось в неодолимую страсть.
Мать принцессы, миясудокоро, души в нем не чаяла, лишь его постоянные попечения и скрашивали ее однообразное, унылое существование. Удайсё никогда даже не намекал принцессе на свои нежные чувства, и ему казалось невозможным вдруг заговорить о них. Не лучше ли подождать? Со временем она убедится в том, сколь постоянен он в своих привязанностях, и он приобретет полную ее доверенность. А пока Удайсё старался использовать любую возможность, дабы побольше узнать о наружности принцессы, о ее душевных качествах. Сообщался он с ней по-прежнему через прислуживающих ей дам. Но вот, пока Удайсё пребывал в нерешительности, не зная, как открыть принцессе свою душу, миясудокоро неожиданно занемогла (поговаривали, что дело не обошлось без вмешательства злых духов) и переехала куда-то в Оно[94] Оно – местность в провинции Ямато, недалеко от горы Хиэ. В настоящее время – один из районов Киото., где у нее был дом.
На ее решение уехать из столицы повлияло еще и то обстоятельство, что некий почтенный монах в сане рисси, с незапамятных времен являвшийся ее наставником в молитвах и не раз помогавший ей избавиться от преследовавших ее духов, не так давно заключился в горном монастыре, дав обет не спускаться в мир[95] ...дав обет не спускаться в мир... – Отшельники, живущие в горах, как правило, давали обет либо на тысячу дней, либо на 12 лет., а как усадьба, принадлежавшая миясудокоро, находилась у самого подножия, она надеялась, что он все-таки сможет иногда навещать ее.
Удайсё позаботился о каретах и прислал передовых, которые должны были сопровождать миясудокоро в Оно. Братья же покойного Гон-дайнагона и не подумали ей помочь. У каждого были свои дела и заботы, разве могли они помнить о миясудокоро? Садайбэн поначалу проявлял некоторый интерес к принцессе и даже пытался намекать ей на свои нежные чувства, но, разочарованный неожиданным отпором с ее стороны, очень скоро перестал бывать на Первой линии. Один Удайсё упорно продолжал навещать принцессу, предусмотрительно не обнаруживая своих намерений.
Услыхав о том, что миясудокоро готовится к оградительным службам, он поспешил прислать вознаграждения для монахов, одеяния чистоты[96] Одеяние чистоты – платье белого (реже – желтого) цвета из шелка, которое полагалось носить во время поста. – словом, позаботился обо всех мелочах. У больной же не было сил даже поблагодарить его.
– Господин Удайсё обидится, если ему напишет кто-то из дам, – всполошились ее прислужницы. – При том положении, какое он занимает в мире…
В конце концов Удайсё написала сама принцесса. Почерк у нее оказался весьма изящный, и, хотя письмо состояло всего из нескольких строк, оно было написано с таким достоинством и такой сердечной теплотой, что Удайсё долго не мог отложить его.
Он стал писать к ней часто, надеясь, что она снова ответит ему.
Опасаясь, что госпожа Северных покоев в конце концов заподозрит неладное, Удайсё не решался ехать в Оно, хотя ему очень этого хотелось.
Но вот настали десятые дни Восьмой луны, пора, когда так прекрасны осенние луга, и Удайсё почувствовал, что не в силах более сдерживать своих чувств.
– Я слышал, что монах Рисси спустился с гор, – как бы между прочим сказал он супруге. – Мне не хотелось бы упускать столь редкую возможность побеседовать с ним. Последнее время он не покидает горной обители. Заодно навещу и миясудокоро. Говорят, она совсем плоха.
И Удайсё выехал в Оно в сопровождении пяти или шести самых преданных телохранителей, облаченных в охотничье платье.
Оно не так уж далеко от столицы, и пологие холмы Мацугасаки вряд ли могут сравниться с настоящими горными кручами, но очарование осени чувствовалось и здесь.
Усадьба миясудокоро, совсем непохожая на столичные, была расположена в живописнейшем месте и радовала взор изящной простотой строений. Разумеется, это было не более чем временное жилище, но каждая мелочь носила на себе печать тонкого вкуса живущих здесь женщин, и даже в простой изгороди из хвороста было что-то изысканное.
В восточной части дома, очевидно считавшегося главным, в отгороженном помещении были установлены вылепленные из глины жертвенники. Сама больная занимала северные передние покои, а принцесса помещалась в западных. Миясудокоро попыталась было убедить дочь остаться в столице.
– Этот дух весьма опасен, – говорила она, но принцесса:
– О нет, не могу я расстаться с вами, – заявив, последовала за матерью.
Опасаясь, как бы злой дух не повредил и ей, миясудокоро, поместив дочь отдельно, запретила ей входить в свои покои.
В доме не нашлось даже места, где можно было бы достойно принять гостя, и Удайсё усадили у занавесей, отделявших покои принцессы. Тем временем дамы поспешили передать его послание госпоже.
– У меня недостает слов, чтобы выразить вам свою признательность… – ответила миясудокоро. – Подумать только, приехать в такую даль… Право, как ни мало у меня сил, я чувствую, что должна задержаться в этом мире хотя бы для того, чтобы как-то отблагодарить вас…
– Я надеялся, что смогу проводить вас сам, – сказал Удайсё, – но, к сожалению, мне пришлось выполнять некоторые поручения господина с Шестой линии. Впрочем, обремененный делами, я непростительно пренебрегал вами и потом, хотя, поверьте, никогда не забывал… Могу ли я рассчитывать на ваше снисхождение?
Принцесса находилась за занавесями во внутренних покоях и старалась ничем не выдавать своего присутствия, но, поскольку это временное жилище было весьма невелико, Удайсё не мог не ощущать, что она где-то рядом. Время от времени до его слуха доносился нежный шелест платья, и сердце его замирало: «Это она!»
Когда посланница миясудокоро ненадолго удалялась, чтобы передать его слова госпоже, он беседовал с Сёсё и другими прислуживающими принцессе дамами.
– Немало лет прошло с тех пор, как я начал посещать вас, – говорит он. – Я всегда старался быть вам полезным, и мне досадно, что со мной обращаются как с чужим. Меня неизменно сажают за занавесями, и я до сих пор не могу сообщаться с вашей госпожой без посредников. Я к этому не привык. Возможно, я кажусь вам чересчур чопорным, многие, наверное, даже посмеиваются надо мной… Увы, мне остается лишь сожалеть, что я был слишком благоразумен в юности, когда не обременяли меня ни лета, ни чины. Будь я легкомысленнее, я бы не чувствовал себя теперь таким новичком. Дожить до моих лет, ни разу не выйдя за рамки приличий, – ну где еще вы найдете такого глупца? Так или иначе, пренебрегать столь важной особой в самом деле неразумно.
– Теперь просто неприлично отвечать ему через посредника, – сочувственно перешептываются дамы.
– Неужели его жалобы не найдут отклика в вашем сердце? – пеняют они принцессе. – Только женщина, лишенная всякой чувствительности…
– Я понимаю, что должна поблагодарить вас вместо матушки, ибо, к сожалению, она не может сделать этого сама, – передает принцесса. – Но все эти дни я ухаживала за больной, страдания которой были ужасны. Увы, я сама еле жива, и у меня нет сил, чтобы ответить…
– Это и есть ответ принцессы? – спрашивает Удайсё и, выпрямившись, добавляет:
– Должен вам сказать, что состояние вашей матушки чрезвычайно тревожит меня, может быть, даже больше, чем если бы я сам был болен. И как вы думаете почему? Возможно, вы сочтете мои слова дерзкими, но позволю себе заметить, что, пока ваша почтенная матушка окончательно не оправится, все ваши близкие будут уповать только на вас, а потому чрезвычайно важно, чтобы вы сохраняли присутствие духа. Обидно, что вы относите мои попечения исключительно к ней, отказываясь замечать, сколь много значите для меня вы сами.
– Ах, и в самом деле… – вздыхают дамы.
Солнце готовилось скрыться за краем гор, легкий туман окутал вершины, сгустились горные тени. Чувствуя приближение ночи, зазвенели цикады (339), у изгороди в вечерних лучах сверкали яркие венчики гвоздики «ямато» (340). В саду привольно сплетались цветы, журчание ручьев навевало прохладу, ветер, прилетающий с горных вершин, приносил с собой шум сосен. Когда сменялись беспрерывно читавшие сутру монахи, слышался звон колокольчика; голоса монахов, уходящего и заступающего, соединяясь воедино, звучали особенно внушительно. Все вокруг располагало к печальным раздумьям, и Удайсё не хотелось уезжать.
Скоро до него донеслись звуки, говорящие о том, что монах Рисси приступил к обрядам, послышался голос, торжественно произносивший слова молитв.
Тут сообщили, что состояние больной резко ухудшилось, и дамы поспешили в ее покои, а как в этом временном жилище прислужниц было немного, рядом с принцессой почти никого не осталось… Вокруг было тихо. «Вот и случай высказать ей свои чувства…» – подумал Удайсё. Приметив же, что туман дополз до самой стрехи, сказал:
– Найду ли я теперь дорогу обратно? Право, не знаю, как и быть…
Сердце чаруют
Горы, едва различимые
В вечернем тумане.
Сумею ли отыскать
Дорогу назад, в столицу?
– Горную хижину
Плотной стеной окружил
Вечерний туман,
Но удержит ли он того,
Чье так изменчиво сердце? —
ответила женщина.
Ее тихий голос вселил в сердце Удайсё надежду, он и думать забыл о возвращении.
– Должен признаться, что я в замешательстве, – сказал он. – Дороги, ведущей к дому, я не вижу, вы же гоните меня прочь, не позволяя остаться здесь, за изгородью из тумана.
Мудрено было не понять, на что намекает Удайсё, но принцесса упорно молчала. Она давно уже догадывалась о его чувствах, но привыкла делать вид, будто ничего не замечает, и теперь, когда он решился наконец открыто упрекнуть ее, была немало раздосадована.
Как ни огорчало Удайсё молчание принцессы, он понимал, что вряд ли когда-нибудь обстоятельства будут больше ему благоприятствовать. «Пусть она сочтет меня грубым и бесчувственным, – думал он, – по крайней мере выскажу ей все, что накопилось у меня на душе».
– Эй, кто-нибудь! – позвал Удайсё, и к нему приблизился один из самых преданных его прислужников – юноша, имевший чин сёгэна в той же Правой охране и недавно получивший Пятый ранг.
– Мне непременно нужно поговорить с достопочтенным монахом, – сказал Удайсё. – До сих пор он был занят оградительными службами, и у него совершенно не оставалось досуга, но надеюсь, что скоро он позволит себе немного отдохнуть. Я останусь здесь на ночь и постараюсь увидеться с ним, когда кончится первая ночная служба. Некоторые из вас, – и он назвал имена, – останутся со мной. Слуги же пусть отправляются в мою усадьбу в Курусу – это недалеко отсюда – и накормят коней. Постарайтесь не шуметь. А то люди начнут судачить об этом случайном ночлеге в пути.
«Все это неспроста», – догадался Сёгэн и, поклонившись, удалился.
– Боюсь, что мне не отыскать теперь дороги, – небрежно сказал Удайсё, снова обращаясь к принцессе. – Не могу ли я переночевать в вашем доме? Я неприхотлив и готов, если вы мне позволите, провести ночь прямо здесь, у занавесей. Мне хотелось бы дождаться мудрейшего.
«Как неприятно!» – подумала принцесса. До сих пор Удайсё никогда не задерживался надолго в ее покоях и не позволял себе ничего предосудительного. Уйти к матери значило открыто выказать ему свое пренебрежение. И она осталась на месте, но отвечать отказывалась. Потеряв надежду добиться ответа, Удайсё улучил миг, когда одна из прислужниц прошла за занавеси с посланием от миясудокоро, и проскользнул вслед за ней.
Ночь еще не настала, но густой туман окутывал окрестности, и в покоях было темно. Прислужница испуганно оглядывалась, а принцесса, растерявшись, попыталась скрыться за северной перегородкой, но Удайсё удалось задержать ее. Сама она успела выскользнуть, но длинный подол ее платья мешал ей запереть перегородку. Тщетно пытаясь справиться с ней, принцесса дрожала, тело ее покрылось испариной. Дамы, совсем потерявшись от страха, не знали, чем ей помочь. Разумеется, они могли бы задвинуть засов с этой стороны, но Удайсё был важной особой, и так грубо отталкивать его…
– Ах, какой ужас! – восклицали они, рыдая. – Могли ли мы ожидать…
– Но почему мне нельзя побыть здесь? Неужели вам так неприятно мое присутствие? Я понимаю, что слишком ничтожен, но разве после стольких лет я не могу рассчитывать хотя бы на сочувствие?
Удайсё говорил тихо, стараясь не обнаруживать своего волнения, но принцесса не желала ничего слушать. Его признания показались ей оскорбительными, и она не сочла нужным даже ответить.
– Право, вы ведете себя словно дитя неразумное, – попенял ей Удайсё. – Я виноват лишь в том, что позволил этой тайной страсти овладеть своим сердцем. О, вы можете быть совершенно спокойны, без вашего согласия я не сделаю больше ни шага. Но когда бы вы знали, как нестерпима тоска, разбивающая сердце на сотни частей (341)! Могу ли я поверить, что вы до сих пор не догадывались о моих чувствах? И все же вы избегаете меня, делая вид, будто и ведать о них не ведаете! Потому-то я и решился… Я понимаю, что, дерзнув приблизиться к вам, уронил себя в ваших глазах, но у меня не было иного средства рассказать вам о тоске, иссушившей мне душу. Ваше пренебрежение обижает меня, но, уверяю вас, я никогда не позволю себе…
Удайсё говорил с искренним чувством и вместе с тем почтительно. Ему ничего не стоило отодвинуть перегородку, но он даже не попытался этого сделать.
– Неужели вам так важно сохранить меж нами хотя бы это жалкое подобие преграды? – улыбнулся он.
Право, мог ли Удайсё оскорбить чьи-нибудь чувства в угоду собственной прихоти?
Несмотря на нелестные слухи, принцесса показалась ему весьма привлекательной. Она была чрезвычайно тонка – не потому ли, что за последние годы ей довелось изведать немало горестей? Мягкие рукава ее домашнего платья сладостно благоухали, нежная женственность придавала особое очарование благородным чертам…
Ветер тоскливо пел в соснах, небо постепенно темнело, в саду звенели цикады, откуда-то доносились крики оленей, шум водопада; сливаясь воедино, эти разнообразные звуки сообщали ночи неизъяснимую прелесть. Даже самые заурядные люди не смогли бы заснуть, завороженные красотой ночного неба, поэтому в доме долго не опускали решеток. Когда же луна приблизилась к горным вершинам, безотчетная грусть овладела сердцем Удайсё, и слезы навернулись у него на глазах.
– Ваше молчание говорит отнюдь не в вашу пользу, – заметил он. – Женщина с чувствительным сердцем вряд ли позволила бы себе… Поверьте, на свете нет человека безобиднее меня. Я понимаю, что подобная неискушенность нелепа в моем возрасте, и все же… Именно такие, как я, легко становятся предметом насмешек, а подчас и оскорблений для неспособных на глубокие чувства жеманниц. Неужели вы думаете, что ваше откровенное пренебрежение охладит мою страсть? Я не верю, что вы до такой степени не знаете мира…
Упреки Удайсё привели принцессу в сильнейшее замешательство. Особенно неприятны были намеки на ее «знание мира», которое якобы должно было облегчить ей путь к сближению с ним. Принцесса сетовала на свою несчастную судьбу, ей было так горько, что хотелось умереть.
– Я знаю, что позволила себе впасть в заблуждение… – тихо сказала она и жалобно заплакала. – Но разве это дает вам право?
Доброе имя
Потеряв, рукава вечно мокрые
Получила взамен.
Вряд ли кому-то в жизни пришлось
Больше изведать горя… —
неожиданно для себя самой добавила она, и Удайсё повторил ее песню сначала про себя, потом шепотом вслух.
– Ах, лучше бы я этого не говорила! – посетовала принцесса.
– Простите, если я чем-то обидел вас, – сказал Удайсё и, улыбаясь, ответил:
– Даже если бы я
Не набросил тебе на плечи
Мокрое платье,
Разве скрыть удалось бы от мира
Поблекшие рукава?
Решайтесь же!
С этими словами Удайсё, к величайшему негодованию принцессы, попытался увлечь ее на место, освещенное лунным светом. Без труда преодолев сопротивление женщины, он прижал ее к себе.
– О, не отталкивайте меня, – говорил он, – разве вы не видите сами, сколь искренни мои чувства? Но без вашего согласия я никогда не посмею…
Тем временем ночь приблизилась к рассвету.
На небе не было ни облачка, и чистый лунный свет проникал в дом. Узкая стреха не мешала луне заглядывать прямо во внутренние покои. Испуганная принцесса все время старалась спрятать лицо, неизъяснимой грацией были проникнуты ее движения.
Удайсё завел речь о покойном Гон-дайнагоне. Говорил он спокойно и неторопливо, однако не преминул и теперь попенять принцессе за то, что она столь явно предпочитает ему ушедшего. Она же думала: «Увы, покойный не достиг высоких чинов, но я сумела примириться со своей участью, тем более что наш союз был признан всеми. И все же сколько обид пришлось мне вынести! А эта тайная связь – к чему приведет она? Будь он хотя бы чужим мне…[97] Будь он хотя бы чужим мне... – Супруга Югири (Кумои-но кари) была сестрой покойного Касиваги, супруга Второй принцессы. Что подумает Вышедший в отставку министр? О, я знаю, весь мир поспешит осудить меня. Каково будет тогда Государю-монаху?»
Перебирая в памяти всех, кто был так или иначе с нею связан, принцесса приходила в отчаяние, понимая, что никакое сопротивление не поможет ей избежать дурной молвы. А миясудокоро – разве не дурно было оставлять ее в неведении? Раньше или позже она неизбежно узнает о случившемся и будет очень огорчена. «В вашем возрасте, – непременно скажет она, – следует быть благоразумнее».
– Уходите, пока совсем не рассвело, – молила принцесса Удайсё, не видя другого средства заставить его уйти.
– Вы просто невероятно бесчувственны! Даже утренняя роса может заподозрить неладное, если я стряхну ее с травы в столь ранний час! Но коль скоро вы настаиваете, то выслушайте меня по крайней мере. Вы, наверное, рады, что вам весьма ловко удалось избавиться от своего незадачливого поклонника, но должен вас предупредить, что, если вы и впредь будете обращаться со мной так жестоко, я не отвечаю за себя и за те недостойные мысли, которые могут у меня возникнуть.
Он медлил, не желая уходить, но, будучи действительно новичком в подобного рода делах, не решался настаивать. Ему было жаль принцессу, он боялся окончательно лишиться ее расположения, а потому посчитал, что для них обоих будет лучше, если он удалится, пока туман не рассеется и не откроет их тайны. Чувства его были в смятении.
– Я промок от росы,
Пробираясь сквозь чащу мисканта.
Неужели опять
Мне придется пуститься в путь,
В восьмислойном тумане исчезнуть?
Или вы думаете, что вам удастся высушить свое промокшее платье? – спросил он. – Но вы сами виноваты. Когда б не выгнали вы меня столь безжалостно…
«Да, дурной молвы не избежать, – думала принцесса, стараясь все же держаться подальше от Удайсё. – Но ведь „можно спросить у сердца“ (286), а оно скажет, что я чиста».
– Знаю: роса,
Обильно покрывшая травы,
Для тебя лишь предлог,
Чтобы снова мокрое платье
Мне на плечи накинуть…
Право, я не ожидала…
Как трогательно-прелестна была принцесса в тот миг!
Глядя на нее с состраданием, Удайсё терзался от стыда и раскаяния. Долгие годы храня верность завету покойного, он заботливо опекал этих женщин и вдруг, воспользовавшись их доверием, повел себя как самый обычный повеса! Но отступись он теперь – над ним наверняка будут смеяться!
Придорожные травы клонились под тяжестью росы. Удайсё пробирался по непривычным ночным тропам, и сердце его замирало то от страха, то от сладостного волнения.
Подумав, что его мокрое от росы платье может возбудить в сердце госпожи подозрение, он решил заехать в восточные покои дома на Шестой линии. Утренний туман еще не рассеялся. А уж там, в горах…
– Какая неожиданность! – удивленно зашептались дамы. – Похоже, что господин куда-то ездил тайно…
Отдохнув, Удайсё сменил промокшее платье. Здесь для него всегда были приготовлены прекрасные одежды – и летние и зимние. Извлекши из китайского ларца новое платье, дамы подали ему. Отведав утреннего риса, Удайсё отправился к Гэндзи.
В Оно он послал письмо, но принцесса не захотела его читать. С ужасом вспоминала она прошедшую ночь и замирала от страха при мысли: «Что, если узнает миясудокоро?» Но вправе ли она скрывать случившееся от матери? Увы, в этом мире так трудно что-нибудь утаить, один вид ее может возбудить догадки и любопытство, а уж если прислужницы проговорятся… Миясудокоро наверняка обидится, узнав, что дочь предпочла оставить ее в неведении. Не лучше ли попросить кого-нибудь из дам рассказать ей все как было? Она будет огорчена, но другого выхода, пожалуй, нет.
Мать и дочь всегда были близки друг другу, пожалуй, даже ближе, чем это обычно бывает, и никогда не имели друг от друга тайн.
В старинных повестях иногда рассказывается о девицах, скрывающих от родителей то, что давно уже известно всему миру, но принцесса ни в коем случае не принадлежала к их числу.
– Если до госпожи и дойдут какие-то слухи, она скорее всего не придаст им значения, – говорили дамы. – Так стоит ли мучить себя понапрасну?
Они сгорали от желания узнать, что написал Удайсё, и, увидев, что принцесса даже не притронулась к письму, недовольные, принялись ее увещевать:
– Неужели вы не ответите?
– Помимо всего прочего это просто неучтиво.
Вняв их настояниям, она в конце концов развернула письмо.
– Я во всем виновата сама, ибо проявила непростительную неосторожность, позволив господину Удайсё увидеть меня, – сказала она. – Но и его безрассудство достойно порицания. Мне трудно забыть об этом. Ответьте же ему, что я не буду читать его писем.
И она прилегла, недовольная их вмешательством.
В письме же Удайсё не оказалось ничего оскорбительного, напротив, оно было искренне нежным:
«Душу свою
В твоем рукаве, жестокая,
Оставив однажды,
Невольно обрек я себя
На путь бесконечных блужданий…
Право, душа не всегда послушна человеческой воле (78). Я не первый, но, увы, безысходна тоска… (342)».
Письмо было очень длинным, но дамы не решились прочесть его до конца. На обычное утреннее послание оно не походило, и все же, кто знает?.. Им было жаль принцессу, но вместе с тем их одолевали сомнения: «Что ждет ее в будущем?» Все эти годы Удайсё оказывал им большое внимание, и все же… Не охладеет ли он к принцессе, если она решиться сделать его своей единственной опорой? Миясудокоро и не подозревала о том, в какой тревоге пребывали близкие прислужницы ее дочери.
Больную по-прежнему преследовал злой дух, и состояние ее было весьма тяжелым, хотя иногда вдруг наступало улучшение и она обретала способность понимать, что происходит вокруг.
В тот день, когда закончились дневные службы, у ее ложа остался один почтенный Рисси, читавший молитвы. Довольный тем, что больной сделалось лучше, он сказал:
– О, я знал, что молитвы мои принесут вам облегчение, если только истинны слова будды Дайнити. При всем своем упорстве эти духи всего лишь жалкие, погрязшие в заблуждениях существа.
Монах говорил хриплым, резким голосом. Как и все отшельники, он был прямодушен и не любил прибегать к околичностям, а потому спросил:
– Давно ли Удайсё начал посещать принцессу?
– Я бы не сказала, что он посещает ее, – ответила миясудокоро. – Он был другом покойного Гон-дайнагона и, выполняя обещание, данное ему перед смертью, любезно заботится о нас. Вот и теперь приехал, желая справиться о моем здоровье. Он очень добр…
– Зачем вы это мне говорите? Уж от меня-то вы можете не скрывать правду. Сегодня, отправляясь на последнюю ночную службу, я видел, как из западной боковой двери вышел какой-то роскошно одетый мужчина. Туман был густой, и я не сумел как следует разглядеть его лицо, но слышал, как монахи говорили: «Это уезжает господин Удайсё. Вчера вечером он отослал карету в столицу, а сам остался ночевать здесь». И правда, от его платья исходил такой аромат, что у меня даже голова закружилась. Кто это мог быть, кроме Удайсё? Всем известно, что он питает слабость к хорошим благовониям. И все же я не одобряю этого союза. Несомненно, Удайсё человек великой учености. Он был совсем еще ребенком, когда покойная госпожа Оомия поручила мне молиться за него, да и потом я нередко оказывал ему услуги. Все это так, но боюсь, что принцессе не стоит тешить себя надеждами. Его нынешняя супруга – особа весьма твердого нрава. Она принадлежит к роду, достигшему вершины своего могущества, и пользуется в мире большим влиянием. У нее уже семь или восемь детей. Вряд ли принцессе удастся оттеснить такую соперницу. Да и стоит ли ей отягощать душу столь тяжким бременем? Ведь женщины, легко впадающие в заблуждение, подвергаются суровому наказанию – им суждено вновь и вновь возрождаться в женском обличье, блуждая среди вечного мрака… Ненависть супруги Удайсё станет непреодолимой преградой на ее пути. Нет, нет, я никак не могу одобрить этого союза, – говорит он, качая головой и вздыхая.
– Все это очень странно, – недоумевает миясудокоро, – Удайсё никогда не выказывал подобных намерений. Вчера я лежала в забытьи. Дамы, кажется, говорили, что он хотел задержаться, надеясь все-таки побеседовать со мной. Неужели он оставался здесь на ночь? В это трудно поверить. Такой степенный, такой осторожный человек…
Тем не менее в словах монаха не было ничего неправдоподобного. Миясудокоро и прежде замечала, что Удайсё неравнодушен к принцессе, но он был благоразумен и всегда вел себя безукоризненно, стараясь не подавать повода к сплетням. Уверенная, что он никогда не позволит себе ничего противного желаниям ее дочери, миясудокоро чувствовала себя в полной безопасности, но, очевидно, воспользовавшись тем, что в покоях малолюдно…
После того как монах удалился, миясудокоро призвала к себе госпожу Косёсё.
– Извольте объяснить мне, что произошло,– потребовала она.– Почему принцесса ничего не сказала мне? Трудно этому поверить, и все же…
Косёсё, как ни жаль ей было принцессу, подробно рассказала все с самого начала. Она не забыла ни о полученном утром письме, ни о словах, невольно сорвавшихся с уст госпожи…
– Возможно, господину Удайсё просто захотелось поделиться с принцессой мыслями и чувствами, которые до сих пор таил он в глубине души. Он проявил похвальную предусмотрительность и ушел задолго до рассвета. А что говорили вам? – Косёсё и в голову не приходило подозревать монаха, она полагала, что старой госпоже тайком сообщил эту новость кто-то из прислужниц.
Неприятно пораженная услышанным, миясудокоро молчала, лишь слезы катились по ее щекам. Вид ее возбуждал невольную жалость, и Косёсё подосадовала на свою откровенность: «Госпожа и без того плоха, к чему ей новые волнения?»
– Так или иначе, перегородка была заперта,– сказала она, стараясь представить дело в наиболее благоприятном свете.
– И тем не менее она позволила ему увидеть себя,– возразила миясудокоро.– Поистине непростительная неосторожность! Быть может, она невинна, но разве заставишь теперь молчать монахов и этих болтливых мальчишек-послушников? Увы, раз уж они начали судачить… И сможет ли кто-нибудь опровергнуть эти слухи, решительно заявив, что ничего подобного не было? А все потому, что ее окружают одни глупые и ветреные девицы…
Миясудокоро едва могла договорить. Измученная тяжкой болезнью и встревоженная услышанным, она совершенно пала духом. Ведь она так надеялась, что ее дочь хотя бы теперь станет жить сообразно своему высокому званию. Но после этой истории, которая, несомненно, повредит ее доброму имени…
– Попросите принцессу зайти ко мне. Лучше, если она придет теперь, пока я в сознании. Мне следовало бы самой отправиться к ней, но, увы, я и двинуться не могу. У меня такое чувство, будто я не видела ее целую вечность,– сказала миясудокоро со слезами на глазах.
– Госпожа зовет вас к себе,– передала принцессе Косёсё, посчитав, как видно, дальнейшие объяснения излишними.
Принцесса привела в порядок намокшие, спутанные на лбу волосы и сменила разорванное нижнее платье. После этого она долго медлила, терзаясь сомнениями. «Что думают обо мне дамы?– спрашивала она себя.– Матушка, наверное, ничего еще не знает, но со временем слухи дойдут и до нее. Она может обидеться, если я ничего ей не скажу». И, растерявшись, принцесса снова легла.
– Ах, мне что-то неможется… – пожаловалась она.– Наверное, я уже не поправлюсь, но, может быть, это и к лучшему. Такая слабость в ногах…
И она попросила дам растереть ей ноги. Когда принцессу одолевали мрачные мысли, она всегда чувствовала себя больной.
– Мне показалось, что кто-то намекнул госпоже на вчерашнее,– сказала Косёсё.– Она потребовала от меня объяснений. И мне пришлось все ей рассказать. Я заверила ее, что перегородка все время оставалась запертой, только в этом одном и погрешив против истины. Поэтому, если она вас спросит, не выдавайте меня.
Она не стала рассказывать принцессе о том, как сокрушалась миясудокоро. Итак, оправдались худшие предчувствия. Принцесса удрученно молчала, лишь слезы капали на изголовье. «Я приношу матушке одни горести,– думала она, и жизнь казалась ей беспросветно унылой.– Ведь это не первый случай. Как страдала она, когда судьба столь неожиданно для нас обеих связала меня с Гон-дайнагоном. Скорее всего Удайсё возобновит свои домогательства. Страшно даже подумать о том, что ждет меня впереди».
Все же она не уступила ему, и эта мысль доставляла ей тайную отраду. Нетрудно себе представить, как осудила бы ее молва, прояви она меньшую твердость. Однако она позволила мужчине увидеть себя – для женщины ее ранга этого было более чем достаточно, чтобы лишиться доброго имени. Право, что за несчастливая судьба!
К вечеру снова пришли от миясудокоро с просьбой пожаловать, и через маленькую кладовую, разделявшую их покои, принцесса прошла на половину матери. Миясудокоро почтительно приветствовала ее, хотя была очень слаба. Не желая нарушать приличий, она поднялась с ложа. – У меня здесь такой беспорядок,– говорила она.– Простите, что не смогла прийти к вам сама. Я не видела вас всего два или три дня, но у меня такое чувство, будто прошли долгие луны и годы. Печально, не правда ли? Можем ли мы надеяться на будущую встречу? Ведь даже если нам обеим удастся возродиться в этом мире, что толку? Мы вряд ли узнаем друг друга. Вот и получается, что лишь краткий миг суждено было нам прожить вместе. Право же, будь мы меньше привязаны друг к другу… По лицу миясудокоро катились слезы, и сердце принцессы болезненно сжалось. Однако она так и не решилась поделиться с матерью своими сомнениями и лишь молча смотрела на нее. Застенчивая и робкая от природы, принцесса не находила в себе довольно твердости, чтобы облегчить душу признанием. Приметив ее замешательство, миясудокоро не стала докучать ей расспросами. Она распорядилась, чтобы дамы зажгли светильник и поставили перед гостьей столик с угощением. Услыхав, что дочь отказывается от еды, миясудокоро сама принялась ее потчевать, но та так и не притронулась ни к чему. Одно радовало принцессу – что матери было немного лучше.
Тем временем принесли новое письмо от Удайсё. Его приняли дамы, которые ничего не знали.
– Велено передать госпоже Косёсё,– объяснили они. Неудачнее и быть не могло. Косёсё взяла письмо.
– Что он пишет?– спросила миясудокоро.
Она успела примириться с мыслью, что Удайсё станет ее зятем, и втайне ждала его. Поняв же, что сегодня он не приедет, снова встревожилась.
– Вы должны непременно ответить,– сказала она принцессе.– Молчать неприлично. Вряд ли найдется человек, способный защитить вас от сплетен. Возможно, вы и в самом деле невинны, но вам никто не поверит. Если же вы перестанете отвечать на послания господина Удайсё, он сочтет вас особой своенравной и бездушной.
Миясудокоро попросила письмо, и Косёсё неохотно передала его ей.
«Ваше откровенное нежелание сообщаться со мной,– писал Удайсё,– не охладило моей страсти, скорее напротив…
Сколько запруд
Ни ставь, лишь мельче становится
Горный ручей.
Удержать не удастся поток,
Падающий по склону…»
Письмо оказалось очень длинным, и миясудокоро не дочитала его до конца. Было в нем что-то неопределенное, нарочитое, к тому же Удайсё сообщал, что не приедет и сегодня. Ну как тут было не возмутиться!
Покойный Гон-дайнагон не оправдал ее ожиданий, но он никогда не забывал о приличиях. Принцесса была единственным предметом его попечений и видела в супруге надежную опору. Это утешало миясудокоро, хотя она и считала, что ее дочь заслуживает лучшей участи. Но Удайсё?.. Какая дерзость! «Что скажет Вышедший в отставку министр?» – волновалась она. Решив выведать хотя бы, каковы намерения самого Удайсё, миясудокоро старательно вытерла глаза, которые за эти тревожные дни совсем померкли от слез, и начертала корявым, похожим на птичьи следы почерком:
«Ваше письмо принесли как раз в тот миг, когда принцесса зашла навестить меня, ибо состояние мое оставляет желать лучшего. Я уговаривала ее ответить, но она настолько пала духом…
Что для тебя
Этот луг, где блекнет напрасно
Цвет девичьей красы?
На одну недолгую ночь
Ты нашел себе здесь приют…»
Дописав, она сложила листок и подсунула его под занавеси, сама же откинулась на изголовье, и тут ей опять сделалось хуже.
Дамы засуетились вокруг. «Этот дух нарочно усыпил нашу бдительность»,– сетовали они. Монахи начали громко читать молитвы.
Дамы настаивали, чтобы принцесса вернулась в свои покои, но она наотрез отказалась. Несчастная хотела умереть вместе с матерью.
Только к полудню Удайсё вернулся в дом на Третьей линии. В тот день он решил воздержаться от поездки в Оно, ибо в противном случае домашние наверняка укрепились бы в своих подозрениях, а ему не хотелось раньше времени давать повод к сплетням.
Весь вечер Удайсё изнывал от тоски. Ему казалось, что чувство его возросло тысячекратно.
До госпожи Северных покоев дошли кое-какие слухи, и она была встревожена, но старалась сохранять наружное спокойствие, заботы же о детях отвлекали ее от мрачных мыслей. Вечером она прилегла отдохнуть в дневных покоях.
Уже совсем стемнело, когда принесли ответ миясудокоро. Придвинув к себе светильник, Удайсё долго вчитывался в письмо, с трудом разбирая корявый, напоминающий птичьи следы почерк.
Госпожа сквозь загораживающий ее занавес зорко следила за ним – и вдруг, незаметно приблизившись, вырывает письмо у него из рук!
– Что вы делаете?– возмущается Удайсё.– Как вам не стыдно? Это письмо от госпожи Восточных покоев дома на Шестой линии. Сегодня утром она, простудившись, занемогла, а я так и не успел зайти к ней, ибо, навестив отца, сразу же уехал. Обеспокоенный, я послал гонца, поручив ему осведомиться о ее здоровье. Взгляните, разве это письмо похоже на любовное? Право же, ваше поведение не делает вам чести. Печально, что вы постепенно отдаляетесь от меня и все больше пренебрегаете моими чувствами. Неужели вам безразлично, что я о вас думаю?
Изображая полнейшее равнодушие, он даже не пытается отобрать письмо, и госпожа неловко вертит его в руках, не решаясь прочесть.
– А по-моему, это вы все больше отдаляетесь от меня,– заявляет она наконец, явно смущенная непоколебимым спокойствием, написанным на лице супруга. Какой юной и прелестной показалась она Удайсё в тот миг!
– Что ж, может быть, и так,– улыбнувшись, говорит он.– Ничего необыкновенного в этом нет. А вот супруг у вас действительно необыкновенный. Вряд ли кто-то другой, имея столь высокое звание, стал бы, словно пугливый сокол[98] ...словно пугливый сокол... – В древней Японии бытовало мнение, что самка сокола гораздо смелее самца. Поэтому во время соколиной охоты использовались только самки., заботиться только об одной женщине. Надо мной и так смеются. Подумайте сами, почетно ли быть супругой неисправимого чудака? Насколько выгоднее положение женщины, которой есть с кем соперничать. Все видят оказываемое ей предпочтение, это поднимает ее в глазах окружающих, да и в собственных глазах тоже. Она всегда чувствует себя молодой, а супружество никогда не теряет для нее своей привлекательности. Неужели вы хотите, чтобы я всю жизнь просидел рядом с вами, как небезызвестный старец[99] ...всю жизнь просидел рядом с вами, как небезызвестный старец. – Очевидно, имеется в виду герой какой-то утерянной повести.? Не понимаю, что в этом хорошего?
Догадываясь, что Удайсё говорит все это лишь для того, чтобы отвлечь ее внимание от письма, госпожа, подарив его чарующей улыбкой, отвечает:
– Хорошего мало и в том, что у столь многообещающего мужа такая старая жена. Вы очень переменились за последнее время. К вам словно вернулась молодость. Я никак не привыкну к этому, и беспокойство мое естественно. Право, «лучше бы пораньше…» (278).
Ее упреки рассердили Удайсё меньше, чем можно было ожидать.
– Но в чем я переменился? – спрашивает он.– По-моему, я никогда не давал вам повода… Почему вы ничего не говорили мне раньше? Наверное, кто-то старается очернить меня. Я ведь знаю, что среди ваших дам у меня есть давние недоброжелательницы. Кое-кто, очевидно, не может забыть моих «зеленых рукавов»[100] ...не может забыть моих зеленых рукавов... – См. кн. 2, гл. «Юная дева», с. 66: Зеленое платье полагалось носить лицам Шестого ранга. и почитает союз со столь незначительным человеком бесчестьем для вас. Подозреваю, что эта особа нарочно возводит на меня напраслину, стараясь посеять меж нами вражду. Это тем более неприятно, что может пострадать доброе имя женщины, за которой нет решительно никакой вины…
Так или иначе, спорить с супругой Удайсё не хотелось. «Что должно свершиться – свершится»,– думал он. Кормилица Таю была возмущена, но предпочла промолчать.
Пока они спорили, госпожа успела куда-то спрятать письмо. Сделав вид, что оно совершенно его не занимает, Удайсё удалился в опочивальню и долго лежал там без сна с бьющимся от волнения сердцем. Письмо, судя по всему, было от миясудокоро. Но что в нем? Он непременно должен его отыскать. Как только госпожа заснула, Удайсё незаметно заглянул под ее сиденье, но там было пусто. Когда же она успела его спрятать? И куда? Раздосадованный, Удайсё долго оставался в опочивальне. Утром, когда разбуженная детьми госпожа удалилась, он, сделав вид, будто только что проснулся, возобновил поиски, но, увы, тщетно. Поскольку Удайсё продолжал притворяться, что не придает письму ровно никакого значения, госпожа решила, что оно и в самом деле не любовное, и успокоилась. Мысли ее целиком сосредоточились на детях. Одни бегали вокруг, другие нянчили кукол, старшие учились читать и писать, самые маленькие ползали, цепляясь за платье, и обо всех надобно было позаботиться. Разумеется, она и думать забыла о письме.
Удайсё, наоборот, ни на миг не забывал о нем. Должно было ответить как можно быстрее, но вчера ему не удалось даже дочесть письмо до конца. А вдруг миясудокоро догадается, что он не читал ее послания? Она ведь может вообразить, что он был небрежен и просто потерял его.
После дневной трапезы в доме стало тихо, и Удайсё, не выдержав, спросил:
– Что было во вчерашнем письме? Нелепо прятать его от меня. Следовало бы навестить сегодня больную, но мне что-то самому неможется, и я никуда, даже на Шестую линию, не поеду. Надобно по крайней мере ответить, но, не зная, что написала она…
Искренняя озабоченность слышалась в его голосе, и госпоже стало стыдно. «Как глупо, что я отняла у него письмо!» – подумала она.
– Почему бы вам не придумать какой-нибудь изысканный предлог, к примеру что вчера в горах дул слишком холодный ветер и вы простудились,– сказала она, нарочно не отвечая на вопрос.
– Какой вздор!– рассердился Удайсё.– Ну что вы находите в этом изысканного? Или вы видите во мне самого заурядного любителя приключений? Мне стыдно за вас. Вот и дамы уже смеются, слушая, как вы разговариваете с супругом, который всегда почитался в мире образцом благонравия,– пошутил он.– Так где же письмо?
Однако госпожа не спешила его отдавать. Они беседовали еще некоторое время, потом прилегли отдохнуть, а день тем временем склонился к вечеру. Проснувшись от пения цикад, Удайсё подумал: «На горные склоны, должно быть, уже опустился туман… Как дурно, что я до сих пор не ответил. Сам я не могу приехать сегодня, так хотя бы письмо…» Растерев с безразличным видом тушь, он некоторое время сидел задумавшись. Вдруг он заметил, что у сиденья госпожи чуть приподнят угол. Заглянул туда и – о радость!– обнаружил письмо миясудокоро. Посетовав на свою недогадливость, Удайсё, улыбаясь, принялся его читать, и тут же щемящая жалость пронзила ему сердце: «Значит, ей уже сообщили, что прошлой ночью… Наверное, и вчера она прождала меня до рассвета, а я даже письма еще не написал». Непростительная небрежность! Как видно, жестокое недоуменье терзало душу несчастной матери – превозмогая муки душевные и телесные, написала она это странное, бессвязное послание. А он и эту ночь заставил ее мучиться в неизвестности. Но, увы, ничего уже не изменишь. А госпожа с такой бездумной жестокостью… «Нет, я сам виноват во всем»,– думал Удайсё, чуть не плача от досады. Он хотел было немедленно ехать в Оно, но потом отказался от этой мысли. Согласится ли принцесса принять его? Правда, миясудокоро как будто… Он медлил, не зная, на что решиться: «День сегодня неблагоприятный, и даже если миясудокоро не станет возражать…»
В конце концов, призвав на помощь все свое благоразумие, Удайсё решил прежде всего написать ответ.
«Я был несказанно рад, получив Ваше письмо, но зачем эти упреки? Боюсь, что Вас ввели в заблуждение…
По осенним лугам
Я прошел, с трудом пробираясь
Сквозь буйные травы.
И стоит ли мне изголовье
Плести на одну лишь ночь?
О, я не хочу оправдываться, но, может быть, Вы простите меня за то, что я уехал, не повидавшись с Вами?»
Весьма длинное письмо он написал и к принцессе, затем, велев оседлать самого быстроногого скакуна из своей конюшни, отправил в Оно Таю, который сопровождал его и в прошлый раз.
– Скажите им, что все это время я был в доме на Шестой линии и только что вернулся,– поручил он ему тайком.
Тем временем истерзанная жестокими сомнениями миясудокоро совершенно пала духом. Так и не дождавшись Удайсё, она, пренебрегши приличиями, написала ему полное упреков послание, но даже оно осталось без ответа. Несчастная пришла в такое отчаяние, что сделалась совсем слаба, и недуг, от которого она почти уже оправилась, вновь овладел ею… Принцессу же молчание Удайсё не удивляло и не обижало, она просто не придавала ему значения. Ее больше огорчало другое: как могла она показаться чужому мужчине! К тому же миясудокоро была явно встревожена… Недовольная собой, расстроенная, не умея ничего сказать в свое оправдание, принцесса молча вздыхала. Видя, в каком она замешательстве, миясудокоро сетовала на судьбу, принесшую ее дочери столько горестей, и мучительная тоска сжимала ее сердце.
– Я не хотела докучать вам наставлениями,– с трудом вымолвила она наконец.– Разумеется, можно считать, что таково ваше предопределение, но, по-моему, вы проявили непростительную неосторожность, и я не удивлюсь, если по миру пойдет дурная молва. Сделанного не воротишь, но надеюсь, что впредь вы будете осмотрительнее. Как ни ничтожно мое собственное положение, все силы своей души я отдала вашему воспитанию и была спокойна, думая, что мне удалось в полной мере образовать ум ваш и сердце, что вы успели проникнуть в сущность явлений этого мира. Но оказалось, вы по-прежнему беспомощны и не уверены в себе, и остается лишь надеяться, что я буду с вами еще некоторое время.
Даже простой женщине, коль скоро занимает она приличное положение в мире, не подобает иметь двух мужей. Это никогда не поощрялось, к таким особам всегда относились с предубеждением. Вы же принадлежите к высочайшему семейству, и вам тем более не пристало вступать в какие бы то ни было сношения с мужчинами. Вы и вообразить себе не можете, как я страдала все эти годы из-за того, что вам пришлось унизиться до союза с простым подданным, но ничего не поделаешь, таково, видно, было ваше предопределение. Государь, ваш отец, не имел никаких возражений и сам изволил сообщить о своем согласии Вышедшему в отставку министру. Так могла ли я упорствовать? Увы, мне ничего не оставалось, как смириться. Все эти годы я усердно заботилась о вас и, зная, что в случившемся нет вашей вины, к небесам обращала свои упреки. И вот эта нелепая история, которая может стоить доброго имени и вам, и господину Удайсё. Если бы он по крайней мере обнаружил готовность вступить с вами в отношения, обычные для этого мира! Тогда можно было бы пренебречь мнением света и утешать себя тем, что вы обрели надежную опору в жизни, но, увы, его бессердечие…– И миясудокоро заплакала.
Чувствуя, что ей вряд ли удастся разуверить мать, принцесса тоже заплакала. Ее печально поникшая фигурка была трогательно-прелестна.
– Разве вы чем-то хуже других?– спросила миясудокоро, разглядывая дочь.– Почему же вам так не повезло в жизни? Какое предопределение навлекло на вас эти несчастья?
У нее опять начались боли. Злые духи никогда не упускают случая воспользоваться подобными обстоятельствами. Вот и теперь сознание внезапно покинуло больную, и тело ее начало холодеть. Монах Рисси поспешил на помощь. Давались новые обеты, громко произносились заклинания.
«Я должен был до скончания дней оставаться в горном уединении, и лишь исключительный случай заставил меня спуститься,– думал монах.– Неужели придется, разбив жертвенник, бесславно вернуться в горы? Увы, сам Будда будет недоволен мной». И он с еще большим воодушевлением принялся возносить молитвы.
Принцесса рыдала, и, право же, горе ее так понятно!
В доме царило смятение, когда принесли письмо от Удайсё. Каким-то чудом больная услышала голос гонца, перешептывания дам и поняла, что он не придет и сегодня. «О, для чего послала я ему это письмо!– корила она себя.– Теперь имя принцессы будет окончательно опорочено». Ей становилось все хуже, и скоро дыхание ее прервалось. Стоит ли описывать горе близких?
Миясудокоро давно уже преследовали злые духи. Нередко бывало и так, что жизнь будто покидала ее, поэтому, предположив, что и теперь в больную просто вселился дух, монахи стали молиться еще усерднее. Но, увы, все было тщетно. Несчастная дочь цеплялась за безжизненное тело матери, словно готовясь последовать за ней.
– Увы, теперь ничего уже не изменишь,– увещевали ее дамы,—никакими стенаниями нельзя вернуть уходящего по последней дороге. Пойти за ней вы тоже не можете, как бы вам этого ни хотелось. Подумайте о том, что своими рыданиями вы затрудняете ее продвижение по Истинному Пути. Вам лучше уйти.
Дамы пытались оторвать принцессу от матери, но несчастная, оцепенев от горя, отказывалась понимать, что происходит вокруг.
Жертвенники были разбиты, и монахи разошлись. Остались лишь те, без кого нельзя было обойтись. Стало ясно, что это конец, и в доме воцарилось уныние.
Отовсюду приезжали с соболезнованиями, непонятно было, когда успели узнать… Господин Удайсё, потрясенный неожиданной вестью, прислал гонцов одним из первых. Гонцы с соболезнованиями приезжали и из дома на Шестой линии, и от Вышедшего в отставку министра. Печальная весть о кончине миясудокоро дошла до Государя-монаха, и он прислал чрезвычайно трогательное письмо. Увидев его, принцесса впервые оторвала голову от изголовья.
«Я слышал, что Ваша матушка тяжело больна,– писал Государь,– но, к сожалению, не проявил должного внимания, ибо она никогда не отличалась крепким здоровьем. Но что об этом говорить теперь… Я хорошо понимаю, как велико Ваше горе, и искренне сочувствую Вам, но вспомните, что таков удел всего мирского, и постарайтесь смириться».
Принцесса ничего не видела от слез, но все-таки ответила Государю.
Миясудокоро еще при жизни распорядилась, чтобы с обрядом погребения не медлили, поэтому его назначили на тот же день, и племянник ушедшей, правитель Ямато, взял на себя необходимые приготовления. «О, позвольте мне еще немного посмотреть на нее…» – просила принцесса, но, увы…
В доме готовились к поминальным службам, и тут в самый неподходящий миг появился Удайсё.
– Я должен ехать сегодня же,– заявил он своим домочадцам, представив себе, в каком горе должна быть принцесса.– Последующие дни неблагоприятны для соболезнований.
– Поспешность не совсем прилична в таком случае,– пытались отговорить его дамы, но, настояв на своем, он все-таки отправился в Оно.
Дорога туда показалась ему бесконечно длинной, когда же он наконец добрался до места, невыразимо скорбное зрелище предстало его взору. Часть дома, предназначенная для церемонии, была предусмотрительно отделена темными занавесями и ширмами.
Дамы поспешили провести Удайсё в западные покои. Туда же вышел правитель Ямато и, обливаясь слезами, начал благодарить его за участие. Усадив гостя на галерее возле боковой двери, он позвал дам, но не нашлось ни одной, способной прислуживать ему: горе помрачило их рассудок. Впрочем, весть о приезде Удайсё многими была воспринята с облегчением, и по прошествии некоторого времени к гостю вышла госпожа Косёсё. Удайсё долго молчал, не в силах вымолвить и слова. Не в его натуре было лить слезы по любому поводу, но и дом, и его обитатели произвели тягостное впечатление на его душу. Да и кто мог остаться равнодушным, увидев перед собой столь явное свидетельство непостоянства мира?
– Увы, зачем так легко поверил я, что вашей госпоже лучше?– сказал он наконец.– Говорят ведь: для того чтобы проснуться и то нужно время… Такая неожиданность…
«А ведь из-за него-то матушка и страдала в последние дни»,– подумала принцесса. Что предопределено – свершится, это несомненно, но разве не досадно ей было оказаться неожиданно для себя самой связанной с этим человеком? Она даже не пожелала ему ответить.
– Что же мы скажем господину Удайсё?– забеспокоились дамы.– Не будь он столь важной особой… И ведь он соблаговолил так быстро приехать…
– Нельзя быть такой неблагодарной…
– Придумайте что-нибудь сами. Я не знаю, что отвечать,– сказала принцесса, даже не вставая с ложа, и можно ли было ее винить?
– Госпожа и сама сейчас еле жива. Я сообщила ей о том, что вы пожаловали,– доложила гостю Косёсё.
Видя, что дам душат рыдания, Удайсё ответил:
– Больше я ничего не могу сейчас сказать. Мне и самому надо прийти в себя. Я приеду позже, надеюсь, принцесса сумеет за это время оправиться… Но почему так внезапно…
Рассказав ему – разумеется, не все и с недомолвками,– что тревожило больную в последние дни, Косёсё добавила:
– Вам может показаться, что я упрекаю вас, но, поверьте, я в таком смятении… Мысли мои в беспорядке, надеюсь, вы будете снисходитель– ны к моим речам… Скорбь принцессы велика, но ничто не длится вечно. Советую вам приехать спустя некоторое время, когда она успокоится. Тогда мы и поговорим обо всем…
Видя, что она тоже еле держится на ногах, Удайсё не стал больше докучать ей расспросами.
– Так, я и сам словно блуждаю в кромешном мраке… Постарайтесь успокоить госпожу, и если будет для меня хоть какой-то ответ…
Он медлил, не решаясь уходить, однако человеку его положения не совсем прилично было оставаться в доме в такое время.
Удайсё не предполагал, что церемония будет назначена на ту же ночь, и поспешность приготовлений неприятно поразила его. Призвав людей из окрестных владений своих, он распорядился, чтобы близким покойной была оказана необходимая помощь, после чего отправился домой. Только благодаря Удайсё церемония прошла с подобающей случаю пышностью. В самом деле, в столь краткий срок мудрено подготовиться как следует, и когда б не он…
Правитель Ямато не находил слов, чтобы выразить свою признательность. Принцесса же по-прежнему была безутешна. «Бренной оболочки и той не осталось теперь!» – рыдала она, но, увы…
«Даже к матери не следует питать столь сильную привязанность»,– думали, глядя на нее дамы, и самые дурные предчувствия рождались в их сердцах.
Правитель Ямато позаботился и о поминальных обрядах.
– Вам нельзя оставаться одной в таком унылом месте,– сказал он принцессе.– Здесь вам вряд ли удастся забыть о своем горе.
Однако принцесса не хотела уезжать. «Глядя на этот дымок над вершиной[101] Глядя на этот дымок... – В древности в горах Оно добывали уголь, и дым, поднимавшийся от костров, напоминал Второй принцессе дым от погребального костра, на котором сожгли тело ее матери., я буду вспоминать ушедшую… – думала она.– Пусть и мои дни окончатся здесь, в Оно».
Монахи, оставшиеся в доме на время скорби, устроились в отгороженных легкими перегородками помещениях в восточной части дома, на галереях, в людских. В западных передних покоях, соответственно убранных, разместилась сама принцесса. Дня от ночи не отличая, предавалась она скорби, а время шло, и вот наступила Девятая луна.
Все располагало к унынию: с гор дул пронизывающий ветер, с деревьев осыпались листья. Даже небо казалось невыразимо печальным, и рукава принцессы ни на миг не высыхали… «Будь жизненный срок…» (38) – вздыхала она. Прислуживавшие ей дамы тоже предавались печали.
От Удайсё каждый день приезжали гонцы с соболезнованиями. Присылаемые им дары несколько скрашивали унылое существование монахов, без устали возносивших молитвы. Принцессе же Удайсё писал трогательные и нежные письма, в которых изъявления искреннего сочувствия перемежались упреками, но она даже не смотрела на них.
Думая и передумывая о том, что привело ее мать к кончине, она невольно приходила к выводу, что, возможно, больная и не угасла бы так скоро, если бы не приняла слишком близко к сердцу случившегося в ту ночь… Увы, миясудокоро ушла из мира, так и не успев обрести покоя. Неизъяснимая горесть стесняла сердце принцессы при мысли о будущих страданиях матери. Одно упоминание об Удайсё приводило ее в отчаяние, и слезы навертывались на глазах. Дамы не осмеливались заговаривать о нем.
Не получая от принцессы ни строчки в ответ, Удайсё сначала объяснял ее молчание тем, что потрясение, ею испытанное, было слишком сильно и она не успела прийти в себя. Но время шло, и постепенно им овладела тревога. «Всякой скорби раньше или позже приходит конец,– думал он не без досады.– Не настолько же она наивна, чтобы ничего не понимать? Когда б я писал ей о чем-то совершенно постороннем – о бабочках или о цветах… Право же, я всегда был уверен, что людям, у которых есть причины для печали, свойственно испытывать благодарность и приязнь ко всем, кто стремится выразить им сочувствие… Я хорошо помню, каким горем была для меня кончина госпожи Оомия, гораздо большим, чем, скажем, для Вышедшего в отставку министра, который, видя в том лишь нечто неизбежное, заботился прежде всего о соблюдении внешних приличий. Его поведение очень огорчило меня тогда. И, напротив, я был очень благодарен господину с Шестой линии за то, что он с необыкновенным вниманием отнесся ко всем поминальным обрядам, хотя и был связан с ушедшей только через меня. Помнится, именно тогда я сблизился с Гон-дайнагоном. Это был тихий юноша с добрым, чувствительным сердцем, очень впечатлительный… Он мне сразу понравился».
Мысли одна другой тягостней теснились в голове Удайсё. Он коротал дни в тоскливом бездействии, и, глядя на него, госпожа Северных покоев недоумевала: «Что же все-таки произошло? Я знаю, он состоял в переписке с покойной миясудокоро, но отчего…»
Однажды, когда Удайсё лежал, задумчиво глядя на вечернее небо, она с сыном передала ему послание. На ничем не примечательном клочке бумаги было написано:
«Слова утешенья
Нашла бы, коль знала причину
Печали твоей.
Тоскуешь ли ты по живой
Или скорбишь по ушедшей?
Право, что может быть тягостнее неизвестности…»
«Кажется, мысль о возможной сопернице продолжает волновать ее воображение,– улыбнувшись, подумал Удайсё.– Не стоило только упоминать об ушедшей…» Он не стал медлить с ответом:
«О той ли, другой
Помышлять, увы, неразумно.
В саду на траве
Роса блеснет и растает,
И мир точно так же непрочен…
Жизнь печальна…»
«Как горько, что он отдалился от меня!» – вздохнула госпожа. Да, вовсе не о росе были ее думы…
Измученный неизвестностью, Удайсё снова отправился в Оно. Сначала он предполагал дождаться окончания срока скорби, но, как видно, не сумел справиться с охватившим его волнением. «К чему постоянно заботиться о приличиях? – думал он.– Не лучше ли поступить так, как поступил бы на моем месте любой другой мужчина? Иначе мне не добиться успеха».
Не придавая особого значения подозрениям супруги, он не стал ее разубеждать. «Если принцесса будет упорствовать,– думал он,– я покажу ей письмо, в котором миясудокоро пеняла мне за то, что „на одну недолгую ночь…“. Людей ведь все равно не заставишь молчать…» Так, надежда на благоприятный исход не покидала его.
Шли десятые дни Девятой луны, луга и горы были так прекрасны, что и менее чувствительный человек не остался бы равнодушным. Ветки деревьев трепетали, не в силах противостоять яростным порывам горного ветра. С «плюща на вершине» срывались листы и устремлялись вниз к земле, словно стараясь опередить друг друга… (345). Откуда-то издалека доносились голоса читавших сутру монахов, кто-то громко славил будду Амиду. Никаких других признаков человеческого присутствия не было. Олени в поисках защиты от пронизывающего осеннего ветра теснились к изгороди, прятались, не пугаясь трещоток, в ярко-желтых рисовых полях. Их жалобные крики нагоняли тоску.
Где-то рядом оглушительно грохотал водопад, резко врываясь в унылые думы людей. В пожелтевшей траве бессильно угасали голоса насекомых, и только лиловые колокольчики горечавок с самодовольным упорством тянулись вверх, горделиво сверкая каплями росы.
Разумеется, в этих приметах осени не было ничего необычного, но время и место накладывали на них особый отпечаток, и сердце сжималось от нестерпимой печали.
Удайсё по обыкновению своему подошел к боковой двери и некоторое время стоял там, любуясь садом. Он был в мягком домашнем платье, сквозь которое красиво просвечивало нижнее одеяние из густо-алого глянцевитого шелка. Слабеющие, но еще достаточно яркие лучи вечернего солнца светили ему в глаза, и он поспешил прикрыть лицо веером. В движении его руки было столько непринужденной грации, что дамы восхищенно вздохнули: «Ах, вот бы женщине так… Но удастся ли?» Лицо его сияло улыбкой, способной рассеять любые печали. Он попросил позвать Косёсё.
Галерея была довольно узкая, и Косёсё подошла к нему совсем близко, однако, подозревая, что за занавесями сидят остальные прислужницы, которые могут подслушать их разговор, Удайсё попросил ее подвинуться еще ближе.
– Надеюсь, я вправе рассчитывать на вашу снисходительность,– сказал он.– Ведь не зря я проделал столь длинный путь. К тому же сегодня такой густой туман…
Желая доказать, что он и не думает смотреть на Косёсё, Удайсё устремил взор на горные вершины…
– Ну еще чуть-чуть,– настаивал он, и Косёсё, пододвинув к нему серый занавес, устроилась за ним, старательно подобрав подол своего платья. Косёсё была связана с миясудокоро узами крови (она приходилась младшей сестрой правителю Ямато), к тому же с младенчества воспитывалась в доме покойной, поэтому ее платье было гораздо темнее, чем у других дам.
– Думаю, что нет нужды уверять вас в том, сколь велика моя скорбь. Но, оплакивая ушедшую, я ни на миг не забываю и о другом – о беспримерной жестокости вашей госпожи. Можете ли вы вообразить мое смятение! Порой мне кажется, что я теряю рассудок. Я понимаю, что видом своим невольно возбуждаю подозрения, но, увы, чувства отказываются повиноваться мне…
Рассказывая о последнем письме миясудокоро, Удайсё горько плакал. А уж о Косёсё и говорить нечего.
– В ту ночь, тщетно прождав ответа, госпожа настолько пала духом, что казалось, будто конец совсем близок. Она лежала в совершенной слабости, глядя на темнеющее небо, и, очевидно, этим-то и воспользовался давно уже преследовавший ее злой дух. Такое случалось и раньше, особенно после того, как ушел из мира господин Гон-дайнагон. Но прежде ей удавалось превозмогать мучения, ибо принцесса нуждалась в утешении… О, если бы вы знали, в каком отчаянии теперь принцесса! Она почти не приходит в себя…
Тяжкие вздохи теснили ее грудь, голос то и дело прерывался.
– О да, я знаю, как слаба и беспомощна ваша госпожа,– отвечает Удайсё.– Простите мне невольную дерзость, но кто, кроме меня, может стать ей теперь опорой? Ее отец живет высоко в горах, разорвав последние связи с миром. В его обитель, затерянную среди туч, и письма не всегда доходят. Постарайтесь же объяснить госпоже, сколь неразумно ее поведение. У каждого свое предопределение. Она не хочет оставаться в этом мире, но разве это зависит от ее воли? Будь мир подвластен нашим желаниям, ей не пришлось бы теперь оплакивать эту разлуку.
Но Косёсё лишь вздыхает в ответ. Где-то недалеко громко кричат олени. «Уступлю ли им я…» (346) – невольно вспоминается Удайсё, и он произносит:
– Был долог мой путь:
Сквозь тростниковые заросли
К селению Оно
Я пробирался, стеная,
Как одинокий олень.
– Темное платье
Промокло совсем от росы.
Осенней порой,
Крикам оленей вторя,
Рыдают жители гор…—
отвечает дама.
Ничего особенного в ее песне не было, но, произнесенная к месту, тихим голосом, она показалась Удайсё чрезвычайно трогательной. Он снова обратился к принцессе, и она передала через Косёсё:
– Моя жизнь – словно страшный сон. Как только я хоть немного приду в себя, я не премину выразить вам свою признательность…
«О, как она жестока!»– вздохнул Удайсё и отправился домой.
В небе ярко сияла тринадцатидневная луна, и даже на Темной горе, горе Огура, были ясно видны тропинки. Путь Удайсё лежал мимо дома на Первой линии. За последнее время дом пришел в еще большее запустение, юго-западная часть стены была разрушена. Заглянув в пролом, он увидел, что решетки повсюду опущены, в саду ни души и только ручьи сверкают в лунном сиянии, напоминая о прежних днях, полных блеска и веселья…
– Знакомые лица
Не отражаются больше
В старом пруду.
Одна лишь луна осенняя
Охраняет эту обитель…—
проговорил Удайсё, ни к кому не обращаясь.
Вернувшись домой, он долго еще любовался луной, и к далеким небесам стремилась его душа.
– Прежде с ним такого не бывало,– недоумевали дамы.– Кто мог предугадать?
Госпожа была встревожена не на шутку. «Похоже, что господин совсем потерял голову,– думала она.– Ему всегда служили образцом обитательницы дома на Шестой линии, привыкшие жить в мире и согласии со своими соперницами. Возможно, по сравнению с ними я кажусь ему невеликодушной, нечуткой… Право же, это несправедливо. Когда б меня с первых дней супружества не приучали к иному, я вряд ли приняла бы случившееся так близко к сердцу, да и для других не было бы такой неожиданностью… Но ведь все, и в первую очередь отец мой и братья, почитали Удайсё образцовым супругом и радовались моему счастью. И теперь, после стольких лет совместной жизни… Какой позор!»
Рассвет был уже близок, а супруги сидели, отвернувшись друг от друга, и молча вздыхали. Не дожидаясь, пока рассеется утренний туман, Удайсё по обыкновению своему принялся писать письмо принцессе.
Госпожа была возмущена, но на этот раз уже не пыталась завладеть письмом. Удайсё писал довольно долго, затем, отложив кисть, тихонько произнес вслух песню. Госпоже удалось кое-что уловить.
«Как я узнаю,
Что миг наступил желанный?
Ты велела мне ждать,
Пока не разгонит утро
Виденья мучительных снов.
С вершины Оно падает… (344)»– вот что написал Удайсё. Затем, сворачивая письмо, долго еще повторял: «На что наконец решиться?» (344).
Призвав слугу, он вручил ему свое послание.
«Если б я могла увидеть ответ!– вздохнула госпожа.– Хотелось бы знать, что их связывает?»
Солнце стояло совсем высоко, когда гонец вернулся из Оно. Рукой Косёсё на листке темно-лиловой бумаги было начертано всего несколько строк. Сообщая, что пока ничего добиться не удалось, Косёсё заключала свое послание следующими словами:
«А вот что написала как-то госпожа на полях присланного Вами письма. Из жалости к Вам я решилась выкрасть его…»
В самом деле, в письмо были вложены исписанные клочки бумаги. «Значит, принцесса все-таки прочла мое письмо!» – обрадовался Удайсё. Право же, он мог бы и не проявлять своей радости так открыто!
Несвязные на первый взгляд обрывки фраз сложились в такую песню:
«Ни ночью, ни днем
Не смолкают мои рыданья.
Вниз по склону Оно
Водопад стремится безмолвно,
Бесконечен поток моих слез» (344).
Рядом были небрежно начертаны строки из печальных старинных песен. Почерк поражал удивительным изяществом.
Какими безумцами прежде казались Удайсё люди, потерявшие голову от любовной страсти, с каким пренебрежением отворачивался он от них! Мог ли он вообразить, что когда-нибудь сам будет томиться от нестерпимой тоски? «Непостижимо! – думал Удайсё, тщетно пытаясь вернуть утраченное хладнокровие.– Отчего с такой неодолимой силой влечется к ней мое сердце?»
Разумеется, по миру очень скоро пошли слухи и дошли до дома на Шестой линии. Гэндзи всегда гордился сыном, да и можно ли было не гордиться им? Удайсё считался образцом благонравия, рассудительности, до сих пор его имя ни разу не становилось предметом пересудов. К тому же достоинства сына до некоторой степени искупали былые заблуждения отца. Весть о неожиданном увлечении Удайсё раздосадовала Гэндзи, тем более что он хорошо понимал, сколь несчастные последствия может иметь эта страсть. Нельзя было забывать и о родственных связях. Что скажет, к примеру, Вышедший в отставку министр? Впрочем, вряд ли Удайсё не сознавал этого сам. Невозможно избежать того, что предопределено, так не лучше ли воздержаться от разговоров на столь щекотливую тему? И Гэндзи лишь печалился и вздыхал, сочувствуя обеим женщинам. Размышляя о прошлом и о грядущем, он нередко говорил госпоже Мурасаки, что подобные слухи вселяют в его сердце тревогу за ее будущее. Что станется с ней, когда его не будет рядом?
«Неужели он собирается оставить меня одну?– покраснев, подумала госпожа.– Право, есть ли на свете существа несчастнее женщин? Они живут замкнуто, хороня на дне души каждый свой порыв, каждое чувство, делая вид, будто их пониманию недоступна красота вещей, будто их не волнует ни трогательное, ни забавное. Где отыскать им средство приблизиться к тем радостям, которые скрашивают человеческую жизнь, что способно отвлечь их от унылых мыслей о тщете мирских упований? Можно, разумеется, убедить себя в том, что женщины просто слишком никчемны, что редко кому из них удается проникнуть в душу вещей, но тогда становится жаль их попечительных родителей… Не бессмысленно ли вечно таить в глубине души чувства, в ней зарождающиеся, подобно принцу Бессловесному[102] Принц Бессловесный (Мугэн-дайси) – персонаж из буддийских легенд, который до 13 лет отказывался говорить., о котором так часто рассказывают монахи в невеселых своих притчах? Стоит ли упорно молчать, даже если понимаешь, что хорошо, а что дурно? Как научиться всегда и во всем соблюдать должную меру?»
Несомненно, мысли госпожи прежде всего устремлялись к малолетней Первой принцессе.
Однажды, когда Удайсё был в доме на Шестой линии, Гэндзи, воспользовавшись случаем, решил выведать, что у него на душе.
– Я слышал, что срок скорби по миясудокоро уже кончился,– говорит он.– Да, думаешь – вчера-сегодня, а на самом деле проходят целых три года[103] ...а на самом деле проходят целых три года... – В некоторых списках есть вариант «тринадцать лет» (прошедшие, как полагают, либо с того дня, когда миясудокоро стала наложницей имп. Судзаку, либо с тех пор, как у Гэндзи появилось желание стать монахом). Более правдоподобным представляется вариант «три года» (прошедшие со дня смерти Касиваги).… Увы, мир слишком печален… Стоит ли цепляться за жизнь, если она подобна росе, упавшей вечером на травы? Я давно уже собираюсь принять постриг, но, увы… Вот и живу, словно не ведая печалей…
– Так, даже людям, которым, казалось бы, нечем дорожить в этой жизни, бывает трудно отречься от мира,– отвечает Удайсё.– Можете ли вы вообразить, что я почувствовал, узнав, что подготовкой поминальных служб занимается один правитель Ямато? Увы, отсутствие у женщин надежного покровителя ощущается не столько при жизни, сколько после смерти.
– Наверное, и Государь-монах изволил прислать соболезнования?– спрашивает Гэндзи.– Как тяжело должно быть теперь Второй принцессе! В последние годы мне чаще обычного приходилось слышать о покойной миясудокоро, похоже, что это была весьма достойная особа. Весь мир оплакивает ее. К сожалению, люди, которым следовало бы жить, часто уходят раньше других. Для Государя-монаха ее кончина, несомненно, была тяжелым ударом. К тому же Вторую принцессу он всегда любил почти так же, как Третью. Она, должно быть, весьма миловидна…
– Мне трудно об этом судить,– отвечает Удайсё.– Ее мать истинно обладала многочисленными достоинствами. Не могу сказать, что мы были коротко знакомы, но мне случалось иногда беседовать с ней, и я имел возможность оценить ее прекрасные душевные качества.
Таким образом, ему удалось довольно ловко уйти от разговора о принцессе. «Нелепо предостерегать человека, который и сам все понимает,—подумал Гэндзи.– Стоит ли докучать ему советами, которыми он и не подумает воспользоваться?» И он не стал ничего говорить.
Удайсё принимал большое участие в подготовке поминальных служб. Разумеется, слухи об этом сразу же распространились по миру и достигли ушей Вышедшего в отставку министра. Он был поражен и, как это ни печально, во всем обвинил принцессу!
Сыновья министра, связанные с покойной миясудокоро давними узами, тоже присутствовали на молебнах, а сам министр прислал роскошные дары для монахов. Люди соперничали друг с другом в проявлении щедрости, и поминальные дни были отмечены таким великолепием, что казалось, будто скончался кто-то из самых влиятельных сановников.
Принцесса решила навсегда остаться в Оно, но кто-то сообщил о том Государю-монаху, и он воспротивился.
– Вы ни в коем случае не должны этого делать,– заявил он.– То, что позволительно простой женщине, не подобает дочери Государя. Она не вправе произвольно располагать своей участью, связывая себя с тем или иным человеком. Однако женщине, не имеющей надежного покровителя, не следует отворачиваться от мира, ибо это может иметь обратные последствия. Вы и оглянуться не успеете, как впадете в заблуждение, ваше имя подхватит молва, и в конце концов вы окажетесь опозоренной в глазах всего света, погубите свое благополучие в этом мире и воздвигнете непреодолимые преграды на своем будущем пути. Вскоре после моего отречения от мира в монашеское платье облачилась ваша младшая сестра. У людей может создаться впечатление, что род наш угасает. Я понимаю, что все это не должно волновать человека, разорвавшего связи с миром, но мне больно смотреть, как мои дети оспаривают друг у друга право первому пойти по этой стезе. О нет, тот, кто спешит отвернуться от мира потому лишь, что жизнь стала ему тягостна и ненавистна, редко обретает душевный покой, скорее наоборот. Прошу вас, не торопитесь, обдумайте все как следует и тогда…
Судя по всему, Государь слышал, о чем судачили люди, и тревожился, понимая, что они не преминут приписать уныние принцессы и ее стремление к уединению обманутым надеждам. Вместе с тем ему казалось, что открытое признание ее связи с Удайсё не исправит положения. В самом деле, когда особа столь высокого звания второй раз становится женой простого подданного… Однако, жалея дочь, Государь не решался заговорить с ней об этом.
Удайсё тоже одолевали сомнения. До сих пор все его старания убедить принцессу были тщетны. Мог ли он надеяться, что ему удастся сломить ее сопротивление? Не лучше ли предать их союз огласке, заявив, что он был заключен с ведома миясудокоро? Пожалуй, ничего другого ему не оставалось. Разумеется, это бросало тень на память покойной, но иначе трудно было ввести людей в заблуждение относительно того, когда и как возникла эта связь. Нелепо же начинать все сначала, домогаться ее любви, проливать слезы… Итак, назначив день переезда принцессы в дом на Первой линии, Удайсё призвал к себе правителя Ямато и, отдав необходимые распоряжения, сам занялся приведением в порядок дома, который после смерти Гон-дайнагона совсем обветшал и зарос бурьяном. Усилиями Удайсё усадьбе было возвращено прежнее великолепие. Особое внимание он уделил внутреннему убранству покоев, не забыв ни о стенных занавесях, ни о ширмах, ни о сиденьях. Предполагалось, что все это будет подготовлено в доме правителя Ямато.
В назначенный день Удайсё, приехав в дом на Первой линии, выслал за принцессой кареты и свиту.
Принцесса отказывалась ехать, но дамы настаивали. Их поддержал правитель Ямато.
– Я не могу согласиться с вами,– сказал он.– До сих пор, видя, в каком бедственном состоянии вы оказались, я старался делать для вас все, что в моих силах. Но дела вынуждают меня уехать в провинцию. Я очень беспокоюсь за вас, не имея никого, кто мог бы взять на себя уход за вашим домом, и безмерно признателен господину Удайсё за любезное внимание ко всем вашим нуждам. Я хорошо понимаю, что такое положение несовместимо с вашим высоким званием, но ведь дочерям государей иногда приходится мириться с гораздо худшими обстоятельствами, и тому есть немало примеров в прошлом. Нелепо думать, что о вас будут злословить больше, чем о других. Женщина не может сама о себе заботиться, какого бы твердого и решительного нрава она ни была. Вы проявите куда больше благоразумия и мудрости, ежели примете помощь от человека, готового окружить вас почтительнейшими заботами. Боюсь, что никто из вас,– сказал он, относясь к Сакон и Косёсё,– не говорил о том госпоже. Хотя с вас-то, наверное, все и началось.
Дамы, все как одна, настаивали на переезде, и принцесса принуждена была уступить. Почти лишившись чувств, она позволила переодеть себя в новое, яркое платье и расчесать себе волосы, с которыми так упорно стремилась расстаться. Они немного поредели, но длиной по-прежнему были в шесть сяку и показались дамам очень красивыми. Но сама принцесса была иного мнения. «Как я подурнела!– думала она.– Могу ли я показаться кому-то сейчас? Что за несчастная у меня судьба!» Тут силы окончательно изменили ей, и она опустилась на ложе.
– Мы опаздываем!– заволновались дамы.– Уже совсем стемнело. Моросил унылый дождь, в деревьях тревожно шумел ветер. Все располагало к печали.
«Почему не дано
Мне было исчезнуть с тем дымом?
Не пришлось бы теперь
Склоняться к тому, о ком
Не помышляла прежде…»
Втайне она по-прежнему подумывала о постриге, но прислужницы не спускали с нее глаз, предусмотрительно спрятав все, что хоть сколько-нибудь напоминало ножницы. «Зря они так волнуются,– думала принцесса.– Мне совершенно все равно, что станется со мной, но я не настолько глупа, чтобы тайком менять обличье. Мне вовсе не хочется прослыть своенравной».
И она не стала осуществлять давнишнего своего желания. Дамы поспешно готовились к переезду. Очень многое – гребни и шпильки, шкатулки, китайские ларцы, мешочки с какими-то безделицами – отправили в столицу заранее. Оставаться одной в опустевшем доме было невозможно, и принцесса, обливаясь слезами, села в карету. Место рядом с ней осталось незанятым, и она вспомнила, как ехала сюда вместе с матерью, как та, превозмогая боль, сама причесала ее и помогла выйти из кареты. Неизъяснимая тоска сжала сердце, и свет померк перед глазами. Меч-талисман и ларец с сутрами всегда были при ней…
«Неизбывна тоска,
Даже этот памятный дар
Ее не рассеет,
На ларец драгоценный взгляну,
И темнеет в глазах от слез…»
Принцесса заказала для сутр черный ларец, но он еще не был готов. Пришлось уложить свитки в инкрустированный перламутром ларец, ранее принадлежавший миясудокоро. Сначала он предназначался в дар кому-то из монахов, но потом принцесса решила оставить его себе на память. Теперь ей казалось, что она – рыбак Урасима…[104] ...теперь ей казалось, что она – рыбак Урасима... – Урасима – персонаж известной японской сказки. Попав во дворец Морского дракона, он провел там, как ему показалось, три дня. На земле же за это время прошло несколько десятков лет. На прощание дочь Морского дракона, ставшая его супругой, подарила Урасима ларец, запретив открывать его. Урасима, не удержавшись, открыл ларец и стал дряхлым стариком.
Дом на Первой линии трудно было узнать. Повсюду царило радостное оживление, по саду сновали нарядно одетые люди. Когда карету подвели к галерее, у принцессы возникло неприятное ощущение, будто ее привезли в какое-то совершенно чужое ей место, и она долго отказывалась выходить. Дамы растерялись: «Ну можно ли? Как неразумно!»
Удайсё приготовил для себя южные покои Восточного флигеля, и вид у него был такой, словно он обосновался здесь надолго.
А в доме на Третьей линии дамы не могли прийти в себя от изумления:
– Кто бы мог подумать?
– Когда же это произошло?
Увы, даже самый благоразумный человек, не обнаруживающий склонности к легкомысленным утехам, может вдруг оказаться способным на действия, казалось бы противные здравому смыслу. Дамам ничего не оставалось, как заключить, что их господин все это время держал союз с принцессой в тайне. Разумеется, никто и вообразить не мог, что сама принцесса еще не дала своего согласия. Да, уж если кто и был достоин жалости, так это принцесса.
Поскольку срок скорби еще не кончился, об обычных обрядах не могло быть и речи. Такое начало не предвещало ничего хорошего. Однако, когда с вечерним угощением было покончено и в доме стало тихо, Удайсё прошел в покои принцессы и принялся упрашивать Косёсё впустить его.
– Если вы в самом деле имеете определенные намерения, подождите еще дня два, три,– ответила Косёсё.– Возвращение домой не принесло госпоже облегчения, скорее напротив. Она лежит не двигаясь, словно жизнь уже покинула ее. Наши увещевания ей явно неприятны, а нам ни в коем случае не хотелось бы навлекать на себя ее гнев. Вы и представить себе не можете, в каком я затруднении.
– Невероятно! Неужели она не понимает…
Снова и снова Удайсё пытался объяснить, что, если удастся осуществить его замысел, они сумеют избежать пересудов.
– О нет, прошу вас!– взывала Косёсё, молитвенно сложив руки.– Меня настолько беспокоит состояние госпожи, что я не в силах думать о другом. Боюсь, как бы и с ней не случилось непоправимого. Умоляю вас, воздержитесь от необдуманных действий.
– Право, со мной никогда еще не случалось ничего подобного,– отвечал раздосадованный Удайсё.– Ваша госпожа относится ко мне с такой неприязнью, будто в мире нет человека хуже меня. Неужели никто не может нас рассудить?
Косёсё стало его жаль.
– Как видно, у вас действительно опыта маловато, раз с вами никогда не случалось ничего подобного,– улыбнулась она.– Не убеждена, что судьи, коль скоро мы их найдем, решат дело в вашу пользу…
Косёсё держалась весьма уверенно, но могла ли она помешать ему? Не обращая на нее никакого внимания, Удайсё прошел за занавеси и устремился туда, где, по его мнению, находилась принцесса. Нетрудно себе представить ее ужас! Возмущенная его настойчивостью, чувствуя себя оскорбленной, обманутой, принцесса решилась пренебречь мнением дам – пусть думают что хотят!– и, устроив себе место в маленькой кладовой, заперлась там. Увы, надолго ли? Хуже всего, что и дамы, словно лишившись рассудка…
Удайсё тоже чувствовал себя обиженным, но, рассудив, что в конце концов все равно добьется своего, решил набраться терпения и устроился неподалеку, словно горный фазан[105] ...словно горный фазан... – Существовало мнение, что у фазанов самцы и самки спят раздельно.. О том о сем размышляя, он с трудом дождался рассвета. Но и утро не принесло никаких перемен.
– Приоткройте же дверь хоть чуть-чуть…– молил Удайсё, но принцесса не отзывалась.
– Как не сетовать мне
На судьбу? Тоска бесконечна.
Длится зимняя ночь,
Предо мною застава, и заперты
Каменные ворота…
О, как вы жестоки!– И он вышел, роняя слезы. Приехав на Шестую линию, Удайсё прилег отдохнуть.
– В доме Вышедшего в отставку министра поговаривают о том, что вы перевезли Вторую принцессу в столицу,– сказала ему обитательница Восточных покоев.– Что бы это могло значить?
Она сидела за занавесями, но ему были видны смутные очертания ее фигуры.
– О да, именно о таких предметах люди говорят охотнее всего!– улыбаясь, отвечал Удайсё.– Дело в том, что покойная миясудокоро, в свое время решительно отвергавшая мои искательства, перед смертью сама пожелала, чтобы я заботился о принцессе. То ли у нее не было больше сил сопротивляться, то ли она слишком беспокоилась, не имея рядом человека, которому могла бы вверить судьбу единственной дочери. Так или иначе, она обратилась ко мне, и я согласился, тем более что и сам об этом подумывал. А люди, как видно, поспешили истолковать мое поведение в дурную сторону. Они ведь готовы злословить по любому поводу… Сама принцесса полна решимости отказаться от мира и стать монахиней, и я не уверен, удастся ли мне удержать ее от этого шага. Боюсь, однако, что сплетен нам не избежать. Разумеется, если она решится принять постриг, это снимет с нас все подозрения… Во всяком случае, мне не хотелось бы нарушать обещания, данного ее покойной матери. Потому-то я и принимаю в принцессе такое участие. Надеюсь, что вы при случае объясните это отцу. Иначе он может посчитать, что мне просто изменила обычная сдержанность. И все же поразительно, сколь мало значат в этой области человеческих отношений советы других людей и собственные желания…
– Вот, оказывается, в чем дело… А я-то думала, что все это лишь досужие толки. Безусловно, ничего необыкновенного в этом нет, но мне жаль нашу милую госпожу с Третьей линии. До сих пор она не знала волнений подобного рода…
– Не слишком ли вы снисходительны к этой «милой» госпоже? Порою она ведет себя как злобный демон. Но почему вы думаете, что теперь я начну от нее отдаляться? Простите мне мою дерзость, но разве ваша собственная жизнь не убеждает вас в существовании иных возможностей? Я уверен, что в конечном счете преимущество всегда остается за женщинами кроткими и мягкосердечными. Особа властная, злонравная может подчинить себе мужа лишь ненадолго. До поры до времени он будет терпеть ее выходки, но когда-нибудь обязательно возмутится. Они начнут ссориться, и каждая новая ссора будет отдалять их друг от друга. Я знаю, сколь велики добродетели госпожи Весенних покоев. Такие, как она, редко встречаются в мире. Но я не могу не отдать должного и вашей доброте, которой цену знаю теперь вполне.
– Боюсь, что ваши неумеренные похвалы,– улыбнулась женщина,– делают более заметными мои недостатки. Но вот что забавно: господин наш, забывая о том, что всем хорошо известны его собственные слабости, всегда принимает близко к сердцу даже самые незначительные ваши увлечения и почитает своим долгом поучать вас или же в ваше отсутствие обсуждать ваше поведение с другими. Воистину человек проницательный не проницает лишь самого себя…
– Да, отец любит предостерегать от опасностей, грозящих человеку на этой стезе,– согласился Удайсё.– Хотя, как мне кажется, я и без его мудрых наставлений веду себя осторожно.
Он прошел в покои отца. Разумеется, до Гэндзи тоже дошли кое-какие слухи, но он – к чему показывать свою осведомленность?– лишь молча смотрел на сына. Казалось, именно теперь красота Удайсё достигла полного расцвета. И позволь он себе предаться влечению чувств, кто осудил бы его? И демоны и боги простили бы ему любое заблуждение, увидев его во всем блеске молодости и красоты. К тому же Удайсё не был юнцом, ничего в этом мире не смыслящим. Нет, он был зрелым мужем, в котором никто не нашел бы ни малейшего изъяна. И разве нельзя было простить ему такой безделицы? «Какая женщина устоит перед ним?– думал Гэндзи.– Мудрено не возгордиться, глядя на такое лицо в зеркало».
Солнце стояло высоко, когда Удайсё добрался наконец до дома на Третьей линии. Как только он вошел, к нему бросились, ласкаясь, его прелестные сыновья. Госпожа лежала в опочивальне и даже не повернулась, когда он зашел за занавеси. Она явно чувствовала себя оскорбленной, он же, хотя и понимал, что основания обижаться у нее были, предпочел вести себя так, будто за ним нет никакой вины, и, решительно подойдя к супруге, приподнял прикрывавшее ее платье.
– Знаете ли вы, где находитесь?– неожиданно спрашивает она.– Я давно уже умерла. Вы всегда звали меня злым демоном, вот я и стала им. Да и не все ль равно теперь…
– Так, душою вы демон, даже хуже,– беззаботно отвечает Удайсё,– но наружность у этого демона весьма привлекательная. И вряд ли я решусь когда-нибудь расстаться с ним…
– Вы слишком хороши собой, и привычки у вас утонченные, боюсь, что такая супруга, как я, вам не подходит,– говорит госпожа, еще больше рассердившись.– Но я постараюсь исчезнуть. Надеюсь, вы сумеете забыть… Жаль, что я не додумалась до этого раньше.
Она поднимается с ложа и стоит, гневно на него глядя. Лицо ее порозовело, и это очень ее красит.
– Этот демон все сердится на меня, словно дитя неразумное,– улыбается Удайсё.– Но я уже привык и не боюсь. Пожалуй, я предпочел бы даже, чтобы он был более грозным…
– Для чего говорить вздор? Нет, лучше вам умереть. И я тогда умру. Вы мне отвратительны. Не желаю больше ни видеть вас, ни слышать. Единственное, чего я боюсь,– это умереть раньше, оставив вас одного.
Право же, она прелестна!
– Если вы не желаете меня видеть,– ласково усмехнувшись, отвечает Удайсё,– я не стану докучать вам своим присутствием. Труднее сделать так, чтобы вы ничего не слышали обо мне. Впрочем, может быть, вы просто хотели напомнить о наших клятвах? Ведь мы и в самом деле клялись вместе уйти к желтым истокам[106] ...вместе уйти к желтым истокам – т. е. вместе умереть.? Не так ли?
Он употреблял все усилия, чтобы смягчить ее сердце, а как госпожа при всех своих недостатках была по-детски доверчива и простодушна, то позволила ему убедить себя, хотя в глубине души и понимала, что его уверения не вполне искренни. Он жалел ее, но сердце его было далеко.
«Надеюсь, что мне удастся поколебать решимость принцессы,– думал Удайсё.– Если же она будет упорствовать в намерении стать монахиней, я могу оказаться в глупом положении». Ему очень не хотелось надолго оставлять принцессу одну, и, видя, что день постепенно склоняется к вечеру, он не находил себе места от беспокойства. Поняв же, что письма от нее не будет и сегодня, совсем приуныл.
Госпожа, у которой несколько дней кряду ни росинки во рту не было, согласилась немного поесть.
– Мне невольно вспоминаются те времена,– сказал Удайсё,– когда я страдал от любви к вам и когда ваш отец столь жестоко пренебрегал моими чувствами. Вы не поверите, сколько насмешек обрушилось тогда на мою голову! Но я вытерпел даже то, что, казалось бы, невозможно было вытерпеть. Я отверг все предложения, а ведь их было немало. Люди осуждали меня. «Даже женщине нельзя быть такой разборчивой»,– говорили они. Теперь я и сам не понимаю… Право, в юные годы мало кто бывает столь постоянен в своих привязанностях. Возможно, я и виноват перед вами, но ведь у нас полным-полно детей, разве можно забывать о них? Нет, мы не имеем права расставаться, даже если у вас вдруг возникнет такое желание. Но подождите, и вы сами убедитесь… Как ни изменчива жизнь…
Он заплакал. Госпожа тоже вспомнила былые дни. «Каким трогательным был наш союз!– подумала она.– Редко кто бывает так счастлив в супружестве. О да, наши судьбы были связаны задолго до того, как появились мы в этом мире!»
Сбросив мятое, старое платье, Удайсё облачился в другое, яркое, нарядное, и старательно пропитал его благовониями. Принарядившись же, собрался уходить, а госпожа смотрела на его освещенную огнем светильника фигуру, и слезы неудержимым потоком струились по ее щекам. Подтянув к себе за рукав сброшенное супругом платье, она сказала словно про себя:
– Не стану роптать,
Видя, что в сердце твоем
Поблекла любовь,
Лучше надену платье
Рыбачки с острова Сосен.
О да, боюсь, что не смогу больше жить в прежнем обличье… Услыхав ее слова, Удайсё остановился.
– Для чего вы так говорите?
Люди станут судачить:
Не по вкусу ей платье поблекшее
С острова Сосен,
Потому-то вдруг и решила
Одежду рыбачка сменить…
Ничего более значительного он не сумел придумать, ибо очень спешил.
Приехав на Первую линию, Удайсё обнаружил, что принцесса все еще скрывается в своем убежище, а дамы, собравшись, уговаривают ее выйти.
– Будьте благоразумны, ведь не можете же вы оставаться там вечно?– взывали они.– Неужели вы хотите, чтобы над вами смеялись? Почему бы вам не выйти и не объясниться с господином Удайсё?
Принцесса понимала, сколь справедливы их упреки, но слишком велика была ее неприязнь к Удайсё, ибо именно в нем видела она причину и нынешних горестей своих, и будущего позора. Поэтому она снова отказалась встретиться с ним.
– Я в растерянности…– сокрушался Удайсё.– Такого со мной еще не бывало…
Право, трудно было не пожалеть его.
– Госпожа просила передать, что встретится с вами, как только немного оправится,– сказали дамы.– Разумеется, если вы не забудете ее до того времени. Но она не хочет, чтобы ее беспокоили, пока не кончился срок скорби. Госпоже чрезвычайно неприятно, что в мире распространяются дурные слухи. Столь широкая огласка кажется ей оскорбительной.
– О, вашей госпоже нечего волноваться, она просто не знает меры моего чувства. Но, право, можно ли было предвидеть…– вздыхает Удайсё.– Когда б она согласилась перейти в свои покои и поговорить со мной… Пусть меж нами поставят занавес, я не возражаю. Поверьте, я ни единым словом, ни единым движением не оскорбил бы ее чувств. Высказать ей свою душу – о большем я не мечтаю. О, я согласен ждать долгие, долгие годы…
Но, увы, мольбы его были напрасны. Вот что передала ему принцесса:
– Мысли мои и без того расстроены, не усугубляйте же моего смятения. Уверяю вас, вы просите невозможного. Вы не представляете себе, в какое отчаяние повергают меня все эти пересуды… Неужели вы настолько жестоки?..
Судя по всему, сердце ее ничуть не смягчилось, и она твердо решила держать его в отдалении. Но как долго это могло продолжаться? Скоро по миру пошли бы новые сплетни… Удайсё уже казалось, что дамы принцессы смотрят на него с осуждением.
– Я готов выполнить желание вашей госпожи,– сказал он,– и не докучать ей более своим присутствием, но разве не лучше нам поддерживать хотя бы видимость супружеских отношений? Согласитесь, что в противном случае мое положение в доме весьма двусмысленно. Если же я прекращу свои посещения, имя ее будет окончательно опорочено. Но вашей госпоже, как видно, недоступны доводы здравого смысла. Что ж, нельзя не пожалеть ее…
Могла ли Косёсё не согласиться с Удайсё? Несомненно, он заслуживал лучшего обращения.
Она потихоньку впустила его через северную дверцу, которой обычно пользовались прислужницы. Принцесса была вне себя от возмущения. Ей и в голову не приходило, что ее дамы…
Впрочем, наверное, все люди таковы, и неизвестно, что ждет ее в будущем. Увы, ей оставалось лишь сетовать на судьбу и сокрушаться о том, что рядом с ней не осталось ни одного надежного человека.
Между тем Удайсё, призвав на помощь все свое красноречие и находчивость, пытался преподать принцессе основы житейской мудрости. Он то шутил, пытаясь ее развеселить, то взывал к ее чувствительности, но, увы, тщетно…
– Боюсь, что вы слишком дурного обо мне мнения,– сказал он наконец, видя, что ему не удается умилостивить принцессу.– О, теперь я и сам проклинаю тот миг, когда позволил себе предаться несбыточной мечте. Но, увы, ничего уже не изменишь. Что вам в вашем гордом имени? Не лучше ли примириться с обстоятельствами? Говорят, разочарование иногда бросает человека в объятия смерти. Но, быть может, вы согласились бы предпочесть мои объятия?
Одни рыдания были ему ответом. Принцесса сидела перед ним, прикрыв голову краем нижнего платья, такая трогательная и беспомощная, что невозможно было смотреть на нее без жалости.
«Но почему?– сетовал раздосадованный Удайсё.– Почему я так противен ей? Любая женщина, даже самая непреклонная, давно уступила бы. Она же бесчувственна, как дерево или камень[107] ...бесчувственна, как дерево или камень... – образ из стихотворения Бо Цзюйи «Супруге Ли»: «Красавица сердце волнует всегда, забыть невозможно ее. / Ведь не деревья, не камни – люди, чувства имеют они...», и невозможно смягчить ее сердце. Не значит ли это, что наши судьбы никак не связаны? Говорят, бывает и такое».
Однако Удайсё поспешил отогнать эту мысль – слишком уж она была ему не по душе. Он подумал о госпоже с Третьей линии. Как ей должно быть одиноко теперь! Он вспоминал, как простодушно отвечала она на его чувство, как счастлива и безмятежна была в супружестве, как безгранично доверяла ему… Теперь же всему этому пришел конец, и ему некого винить, кроме самого себя! Печаль сжала его сердце, он перестал утешать принцессу и просидел до самого рассвета, молча вздыхая.
Нелепо было приезжать для того лишь, чтобы сразу уехать, тем более что и окружающим это могло показаться странным, поэтому Удайсё решил остаться и весь следующий день провел в спокойной праздности в доме на Первой линии. Возмущенная настойчивостью гостя, принцесса старалась держаться как можно дальше от него, и Удайсё то досадовал: «Что за глупое упрямство!», то умилялся.
В маленькой кладовой не было почти ничего, кроме нескольких шкафчиков и китайских ларцов с благовониями. Отодвинув их в сторону, дамы на освободившемся пространстве, разумеется весьма ограниченном, устроили ложе для своей госпожи. Комнатка была темной, но по утрам сюда проникали солнечные лучи, и Удайсё не преминул воспользоваться этим обстоятельством: он откинул платье, под которым лежала принцесса, и, приподняв ее спутанные волосы, заглянул ей в лицо.
Что-то необыкновенно мягкое, женственное сквозило в ее тонких, благородных чертах. А уж Удайсё был так красив, что никакими словами не опишешь,– простое домашнее платье шло к нему куда больше, чем роскошный парадный наряд.
Хорошо помня, что даже ее покойный супруг, не отличавшийся особенной красотой, позволял себе весьма пренебрежительно отзываться о ее наружности, принцесса сгорала со стыда. «За последнее время я так побледнела и осунулась. Сумею ли я хотя бы ненадолго привязать к себе господина Удайсё?» Так или иначе, она постаралась взять себя в руки и разобраться в собственных чувствах. Хуже всего, что люди, которых мнением она дорожила, услыхав обо всем с чужих слов, непременно осудят ее, а что она может сказать в свое оправдание? Да и время теперь самое неблагоприятное… Словом, примириться с создавшимся положением было довольно трудно.
Воду для умывания и утренний рис дамы подали в покои принцессы. Траурное убранство могло послужить в такой день дурным предзнаменованием, поэтому с восточной стороны поставили ширмы, а со стороны внутренних покоев – скромные светло-коричневые переносные занавесы и двойные шкафчики из аквилярии. Обо всем заранее позаботился правитель Ямато. Дамы, прислуживающие при утренней трапезе, чтобы не так бросались в глаза их траурные одежды, накинули желтые, алые, темно-лиловые, зеленовато-серые, а также светло-сиреневые и желтовато-зеленые платья неярких оттенков.
В последнее время в доме на Первой линии жили одни женщины, и хозяйство без должного надзора пришло в упадок. Лишь правитель Ямато присматривал за немногими оставшимися слугами, стараясь по мере сил поддерживать порядок в доме. Но едва разнесся слух, что столь высокий гость удостоил вниманием это старое жилище, служители, давно уже пренебрегавшие своими обязанностями, поспешили занять места в помещении домашней управы и, изображая крайнее усердие, принялись за дела.
Нетрудно себе представить, какие сомнения терзали душу госпожи с Третьей линии, пока Удайсё с таким упорством старался утвердиться в доме Второй принцессы. Иногда ей представлялось, что все кончено, иногда в сердце вновь вспыхивала надежда: «Полно, да может ли быть…» «Ах, видно не зря говорят, что благоразумные люди коли отдаются страсти, то безоглядно,– думала она,– это поистине так». Ей казалось, что она испытала сполна все горести супружеской жизни. Не желая подвергать себя дальнейшим оскорблениям, госпожа поспешила переехать в дом отца под тем предлогом, что ей предписана перемена места[108] ...предписана перемена места. – Если астрологи указывали, что дом, в котором живет человек, попадает под влияние дурных сил, следовало переждать неблагоприятное время где-нибудь в другом месте..
Нёго Кокидэн тоже жила в те дни в отчем доме, и, находя утешение в ее обществе, госпожа вопреки обыкновению не спешила возвращаться домой.
Разумеется, нашлись люди, которые сообщили обо всем Удайсё. «Этого и следовало ожидать,– подумал он.– Или я не знаю вспыльчивого нрава госпожи? Вот и отец ее до сих пор строптив и своенравен, хотя, казалось бы, в его годы… Боюсь, что гнев их будет неукротим и скорее всего они не захотят ни видеть меня, ни слышать…»
Встревоженный Удайсё отправился в дом на Третьей линии. Там он обнаружил старших сыновей, девочек же и младших госпожа забрала с собой. Обрадовавшись, дети бросились к отцу. Однако многие плакали и звали мать. Душераздирающее зрелище!
Удайсё осыпал супругу письмами, посылал за ней гонцов, но она даже не отвечала. «Что за глупое упрямство»,– рассердился он и решил, дождавшись сумерек, отправиться к ней сам. Важно было узнать, как отнесся к случившемуся министр.
В покоях, которые обычно занимала госпожа, он нашел прислуживающих ей дам и детей с кормилицами. Сама госпожа, как ему сообщили, находилась в главном доме. Он отправил ей весьма суровое послание:
«По-моему, Вы уже вышли из возраста, когда легкомысленное забвение всех законов, всех правил приличия можно считать простительным. Вы разбросали повсюду детей своих и находите удовольствие в досужих беседах. Что Вам в них? Мне давно уже очень многое не по душе, но, видя в союзе с Вами свое предопределение, я никогда и мысли не допускал, чтобы покинуть Вас. А теперь… Мы не должны расставаться хотя бы из-за детей… Подумайте, разве Вам их не жаль? Неужели стоило поднимать такой шум из-за сущей безделицы?»
– Я знаю, что давно надоела вам,– на словах отвечала госпожа.– Увы, теперь трудно исправить… И к чему продолжать? Могу ли я надеяться хотя бы на то, что вы не оставите бедных крошек? О, я была бы чрезвычайно вам признательна…
– Весьма любезный ответ. Но подумайте, чье имя подхватит скорее молва? (347).
И, более не настаивая на возвращении супруги, Удайсё провел ночь в одиночестве. «Трудно вообразить более нелепое положение»,– думал он, лежа рядом с детьми. Подозревая, и не без оснований, что его отсутствие лишь укрепит принцессу в ее сомнениях, он не находил себе места от тревоги.
«Не понимаю, кому это может нравиться?» – вздыхал он, чувствуя, что ему более чем довольно и первого опыта.
Наконец настало утро. Удайсё предпринял еще одну попытку вразумить госпожу:
– Неужели вы не боитесь огласки? Что ж, если вы полны решимости разорвать наш союз, давайте попробуем. Но подумайте о детях, оставшихся в доме на Третьей линии, они плачут, зовут вас. Или вам их не жаль? Подозреваю, впрочем, что вы недаром разделили их именно таким образом. Но я не считаю для себя возможным расстаться ни с теми, ни с другими. Я буду по-прежнему заботиться обо всех.
Угрозы Удайсё насторожили госпожу. «А что, если он увезет куда-нибудь младших детей?» – испугалась она, а как и сама склонна была к необдуманным действиям…
– Прошу вас отпустить со мной хотя бы девочек,– снова обратился к ней Удайсё.– Здесь я не могу бывать часто. Дети должны быть вместе, иначе мне трудно будет окружить их должными попечениями.
Затем, с жалостью глядя на прелестных малюток, сказал:
– Не слушайте того, что вам будет говорить матушка. Она рассердилась на меня и не желает ничего понимать. Дурно, не правда ли?
Услыхав о случившемся, министр встревожился, понимая, что теперь его дочь может стать предметом насмешек и оскорблений.
– Почему вы хотя бы немного не подождали? – попенял он ей.– Скорее всего у вашего супруга есть причины вести себя именно так, а не иначе. Вы слишком своевольны, а это женщине не к лицу. Разве вы не понимаете, что сами даете повод к сплетням? Впрочем, коль скоро вы встали на этот путь, глупо сразу же идти на попятную. Что ж, посмотрим, как он себя поведет…
И министр отправил Второй принцессе письмо. Гонцом его был Куродо-но сёсё.
«Нас с тобою судьба,
Как видно, связала крепко.
Снова и снова
Я о тебе помышляю
То с любовью, то с укоризной…
Надеюсь, что Вы не забудете нас и теперь…»
Куродо-но сёсё, не церемонясь, прошел прямо в дом. Его провели на галерею южных покоев, где нарочно для него было приготовлено соломенное сиденье. Дамы с трудом скрывали смущение. Надобно ли сказывать, в каком замешательстве была сама принцесса?
Куродо-но сёсё обладал приятной наружностью и самыми изящными манерами. Он сидел, неторопливо озираясь и, судя по всему, вспоминая о прошлом.
– О, как все мне знакомо здесь! – говорит он, вздыхая.– Я чувствую себя совсем как дома. Впрочем, не думаю, чтобы вам это нравилось.
Только этот намек он и позволил себе.
У принцессы не было никакого желания отвечать на письмо.
– Я не стану писать,– заявила она.
– Но это неучтиво! – всполошились дамы.– В ваши годы нельзя так пренебрегать приличиями. Даже письмо, написанное посредником, может быть воспринято как оскорбление. А уж если вы вовсе не ответите…
«Ах, когда бы матушка была жива! – подумала принцесса, и глаза ее увлажнились.– С какой нежной снисходительностью скрывала бы она мои недостатки, даже если бы и не одобряла моего поведения». Слезы падали на бумагу прежде, чем ложилась на нее тушь, и она не могла писать. В конце концов она начертала первое, что пришло ей в голову:
«Стоит ли, право,
О столь ничтожной особе
Тебе помышлять?
Расточать ей свою любовь,
К ней обращать упреки?»
Не добавив к песне ни слова, она свернула письмо и отдала его. Тем временем Куродо-но сёсё беседовал с дамами.
– Я бываю у вас так часто, что вправе рассчитывать на более теплый прием,– многозначительно говорил он.– К тому же теперь по некоторым причинам я буду заходить к вам еще чаще. Надеюсь, мне позволят входить и во внутренние покои. Должна же быть вознаграждена моя многолетняя преданность…
С этими словами он вышел.
Видя, что все попытки добиться благосклонности принцессы лишь возбуждают ее нерасположение к нему, Удайсё совершенно потерял покой. Госпожа с Третьей линии с каждым днем становилась все печальнее. Слух о том очень скоро дошел до То-найси-но сукэ. «Госпожа не хотела мириться даже с моим существованием,– подумала она,– а ведь с особой столь высокого звания ей нельзя будет не считаться…» Она и раньше иногда писала к ней, а потому:
«О своей ли судьбе
Стану я, ничтожная, плакать?
Нет, о тебе
Я грущу, и мои рукава
Давно промокли до нитки…»
Как ни уязвлено было ее самолюбие, госпожа все-таки решила откликнуться – отчасти потому, что в те дни было ей как-то особенно грустно и тоскливо, отчасти потому, что письмо бывшей соперницы принесло ей некоторое удовлетворение, ибо трудно было не заметить сквозившей в нем тревоги…
«Раньше и мне
Лишь наблюдать приходилось,
Как страдают другие.
Разве ведала я, что скоро
Окажусь на их месте сама?» —
написала она. Могло ли столь чистосердечное признание не тронуть То-найси-но сукэ?
То-найси-но сукэ была единственной, кого удостоил своим вниманием Удайсё, когда его разлучили с дочерью Вышедшего в отставку министра. Однако, соединившись наконец со своей первой возлюбленной, он постепенно охладел ко второй и стал бывать у нее весьма редко, что, впрочем, не помешало им иметь детей.
Госпожа Северных покоев родила Удайсё четырех сыновей: Первого, Третьего, Четвертого и Шестого – и четырех дочерей: Первую, Вторую, Четвертую и Пятую.
То-найси-но сукэ родила двух дочерей: Третью и Шестую – и сыновей: Второго и Пятого .
Все двенадцать детей до единого были хороши собой и обнаруживали незаурядные дарования. И все же особенной миловидностью и умом отличались дети То-найси-но сукэ. Третья дочь и Второй сын воспитывались у госпожи Восточных покоев из дома на Шестой линии и пользовались особым расположением Гэндзи.
Право, трудно описать все сложности, с которыми пришлось столкнуться Удайсё…

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления