Онлайн чтение книги
Озеро шумит. Рассказы карело-финских писателей
Анатолий Шихов
Родился в 1940 году в г. Можге Удмуртской АССР. Образование среднее. Работал стеклодувом, лесорубом, трактористом, сейчас художник-оформитель в Петрозаводском доме политпросвещения. Первый рассказ опубликован в 1962 году в журнале «На рубеже» («Север»).
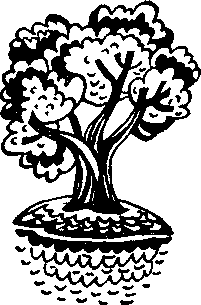
Рядом с династией
Если бутыль забраковали, то виноват чаще всего баночник: обжегся, засуетился, вот и прозевал, не заметил воздушного пузырька в стекле. А когда баночка остынет, пузырек ведь не выковыряешь. Браковщица слегка постучит по нему, и вся бутыль раскололась. Попадает еще камешек — крохотный кусочек того самого кирпича, из которого сложена печь для варки стекла, а в печи этой может запросто развернуться автокран. Там беснуются голубые полупрозрачные космы пламени, никакие кирпичи не выдерживают адской температуры: если не оплавляются, так крошатся, и, конечно, крошки оказываются возле горлышка. Постучишь по такому камешку — и он выскочил, как сучок из высохшей доски. Кому нужна бутыль с дыркой?
Случается, что виноват сам мастер, но редко. Любой мастер старается сделать бутыль — хоть об дорогу бей.
Конечно, мастера придирчивы до невозможности и требуют идеальную баночку.
Но только не Игнатьев. И все потому, что он умеет делать бутылки, которые от неосторожного прикосновения тут же рассыпаются в прах. Звук при этом такой, будто ножовка сломалась.
Их нельзя трясти. На них даже чихнуть рискованно. Я видел, как их грузят в вагоны: передают по цепи из рук в руки. Спрашивается, кому нужна такая хрупкая посуда? Оказывается, киностудиям. Там их разбивают о головы всяких бандитов. Не станешь же в таких случаях пользоваться обыкновенной бутылкой.
Или, к примеру, на экране гонит баба самогон, деду-дегустатору не понравилось — скандал. Самогонщица хвать об пол бутылью, а ей хоть бы хны. Зритель скажет: так не бывает. Зритель скажет: мне подавай жизненную правду. Вот потому-то киностудии порой и просят посудину, которая может взорваться, если даже на нее ресничка упадет.
В этих случаях заказ получает Игнатьев. Он у нас один на весь завод.
Я к нему долго приглядывался, лисой юлил вокруг да около. Все видел: как он камешки из расплавленного стекла выщипывает, как по-своему мнет стеклянный пузырь, прежде чем сунуть его в форму, и как мох выбирает. Другие мастера берут мох из общей кучи, какой попадется, а он — нет, он нюхает и лицо у него при этом становится вдохновенным… Знает человек то, чего не знают другие — тут уж дело не шуточное. Я тоже пробовал, нюхал — смородиной пахнет. Впрочем, вся куча смородиной пахла, и надо мной подшучивали. Только я нисколечко не поверил в чудодейственную силу мха, разорил гнездо голубя (их у нас под крышей в тепле-то целый птичий базар), так вот, разорил я гнездо и на удивление всем свалял в нем баночку. Да еще какую! Стеклодувы долго ее рассматривали, качали головами, а я ходил довольный собой.
Осадил меня, однако, все тот же Игнатьев.
— Чего радуешься, дурачок, она же не звенит.
Действительно, баночка не звенела, чтоб ей было неладно! Значит, со стеклом что-то произошло. А что произошло — никто не знает. Игнатьев, может, и догадывается, да объяснит ли?
Пробовал я и по-простецки к нему: дескать, будь другом, расскажи, как ты чудеса делаешь. А он тоже по-простецки:
— Черт его знает, получается — и все. Батька говорил: надо душу вкладывать, вот я и вкладываю.
Хитрит, дьявол.
Мастера вообще не любят обмениваться опытом. Не принято. У каждого мастера есть свой маленький секрет, своя профессиональная тайна, он ее потихонечку совершенствует, а чужая ему вроде бы и ни к чему. Верно одно — стекло души требует, а чужая душа — потемки, ничего там не увидишь.
Так вот, у этого самого Игнатьева баночник ушел, знаменитый мастер работал один, и мне захотелось воспользоваться случаем, чтобы докопаться до его творческого секрета. Но я покривил душой, не сказывал об этом начальнику цеха Ирине Николаевне, а сердито заявил, что мне надоело болтаться без дела, подменять заболевших и отпускников, пусть меня самого подменяют.
Уж я бы нашел способ докопаться до секрета. Стал бы подсовывать мастеру из рук вон плохие баночки, ну, он, по ходу дела исправляя мой брак, волей-неволей расшифровал бы свой секрет, заставил бы делать нужные ему баночки, я оценил бы разницу и — готово! Само собой сказать об этом начальнику цеха я не мог. Просто заявил: надоело. И потребовал: ставьте меня к Игнатьеву.
— Поработай еще пару месяцев, милый, — нерешительно предложила Ирина Николаевна. — Скоро этого оболтуса Кононова в армию отправим, будешь вместо него работать.
Я настаивал.
— Видишь ли, какое дело, милый, у меня два свободных баночника: ты и еще Протасов. Протасов тоже к Игнатьеву просится. Они вчера вместе работали. Ну, хорошо, сегодня мы Протасова заменим тобой. Кто лучше, тот и останется.
Это значило: мне нужно хорошенько поработать, а я собирался халтурить. Вот же загвоздка!
Игнатьев слыл человеком мрачным, к тому же обладал неприятным, подозрительным взглядом. Затирщицей у него работала девушка, мне нравилось ее имя — Этха. Мастера, как правило, берут в затирщицы своих жен, а у этого — девушка, очень бойкая и горластая. Над головой ветрогон ревет, оглохнуть можно, а она перекричала: «Эй, Макар, где твои телята?»
Работу начинает баночник. Нагрел расширенный конец трубки, аккуратненько положил его на розовую поверхность стекла и давай крутить — наматывать вязкую стеклянную массу. Крохотное оконце дышит пламенем, руки как в кипящем молоке. Пахнет паленым. Но я побратался с Прометеем, я несгораемый, не вспузырится больше кожа между большим и указательным пальцем.
Намотал этакий набалдашник величиной с кулак, похожий на спираль улитки, — тащи. А мастер смотрит, оценивает. Хорошо вышло, деликатно. Бросил в форму щепотку опилок, плеснул туда воды с кончиков пальцев и ну валять золотой, будто бы вовсе и не горячий слиток, однако вода там сразу выкипела. Поддал еще. Ничего, дело привычное, справлюсь. Оглянулся на всякий случай, все ли хорошо, не наделал ли ошибок. Если напортачишь — из печи потянется за тобой тонюсенькая паутинка стекла. Остывая, она будет петь, а потом рассыплется на иглы, и стеклянные занозы обязательно вопьются в ладонь. А внутри баночки обязательно появится вытек — «кишка», самый настоящий брак, значит, набирал неправильно. И вот набирь стала походить на луковицу, теперь самое время дуть, только сначала надо осадить ее на кончик трубки, иначе стенки баночки при основании тонкими будут — тоже брак. Поставил трубку вертикально и — бац сверху ладонью по расплавленному стеклу, так скорее. Пшик! Набирь расплющилась, а в ладони не осталось ни одной занозы, даже самой маленькой; если и были, то все приклеились к стеклу. Мастер ничего не сказал, доволен, видно, остался.
Когда приходят экскурсанты, преимущественно пионеры, я всегда показываю этот фокус. Больно уж широко раскрывают ребята рты, как скворечник, ей-богу.
Слыхал я всякие россказни об йогах, которые гуляют на раскаленных углях, слыхал, да не удивлялся. Своих чудес полно. Говорят, некоторые наши ловкачи, например, умудряются скатать в ладонях шарик из расплавленного стекла, будто это не стекло, способное насквозь прожечь половицу, а печеная картошка.
Дую. Мне надо хорошо поработать, Протасов вовсю старался, я знаю, он хотел понравиться Игнатьеву. Да и кто не хочет? Мне никак нельзя подкачать. Смеяться станут. Этха скажет: «Тоже мне, стеклодув-неумеха, обдул тебя Протасов!»
Ага, стекло стало просвечивать, наелось воздухом. У баночки показались стенки, самое ТО! Они отливают рубином, а была сплошная калотуха, как палица. Сунул зародыш будущей бутылки в мох и опять кручу, да мох смачиваю. Дую — кручу, остужаю — кручу. Все время пальчиками, хорошая школа для скрипачей. Готово, теперь можно сунуть ее в поток холодного воздуха, что несется прямо в лицо из ветрогона. Только здесь, в пяти шагах от пекла и можно спастись от жары, а слесари ходят по цеху расстегнутыми до пупа. А те, которые шихту в печь засыпают, те, наоборот, чтобы не зажариться, укутываются во все суконное.
Остывает милая, зеленеет. Между прочим, баночка на баночку не походит. Ничего общего, одно название. Она походит на снаряд, а на баночку не походит.
Игнатьев взял у меня баночку, осмотрел ее подозрительно, опять ничего не сказал, пошел набирать на нее стекло, а я глядел на мастера во все глаза. Он не дошел до оконца двух шагов, ткнул моей баночкой в печь и, не торопясь, ладненько стал наматывать.
Потом он достал из печи сверкающий ослепительными зайчиками шар, на нем вихрились протуберанцы. Наверное, также выглядит шаровая молния. Мастер принес ее к формам, при этом не пролил ни капли.
Как тут мне не радоваться? Значит, я хорошо сработал, если моя баночка не лопнула. Выходит, Протасов останется с носом.
Стеклодув швырнул огненную колотуху в осиновую полуформу и начал шутя покручивать. Время от времени прикладывался к соску трубки, равнодушно смотрел в сторону. Я тоже посмотрел. Ничего там интересного не было. Вот он почесал затылок, полез в карман за папиросами и прикурил от раскаленной баночки, которую я к тому времени заканчивал и которую догадался сунуть ему под нос. К соску прикладывался не вынимая изо рта папиросы. Вот наловчился! Надул бутыль дымом — двадцать литров дыма! Шуточки — и никакого искусства. Все ясно, как божий день. Вот он бросил уже потускневший стеклянный мешок в металлическую чашу, крутнул пару раз — и бух в конечную форму. Та захлопнулась. Покрутил еще немного, попыжился — и вот я принимаю сверкающее розовое чудо, в котором отражаются окна, Этха и моя счастливая рожа с улыбкой на всю бутыль. Я смеюсь, хотя не слышу собственного смеха, я радуюсь, я ликую. Подбегает Этха, тоже смеется, с размаху насаживает бутыль на специальный ухват (его почему-то называют ружьем), торжественно подняла над головой наше пышущее детище, умчала к своей печи, затерла там горло, потом швырнула на транспортер. Педаль! — и чудо упало в лерную печь.
Да неужели та самая бутыль, с которой девушка обращается так грубо, остынув, разлетится, если по ней стукнуть кулаком? Неужели я, невежда, зачинаю столь хрупкое и загадочное?
Но почему же, почему горячую бутыль никакими силами не расколотишь, расплющить только, как тюбик из-под пасты, а холодная — вдребезги?
Если она не получилась, Игнатьев должен бы это почувствовать, но он совершенно невозмутим.
Эх, была не была! Черт с ним, с местом! Все знают и Этха тоже, что я умею работать так, что ни одна, даже самая вредная браковщица не придерется. Пусть Протасов празднует победу, но я наделаю Игнатьеву таких баночек, что их даже кувалдой не расколотишь.
И наделал. Курам на смех.
На что только ни походили мои баночки: на графины, на велосипедные седла, на что угодно, только не на баночки. В довершении всего я заваривал их в первоначальной форме, садил бородавки на самые видные места, «забывал» смачивать мох, он подгорал, пачкая баночку сизыми кольцами, будто уронил и размазал пепел с папиросы. Знаток художественного стекла сказал бы — шедевр, а мы говорим — типичный брак; все эти пятна и бородавки должны были расползтись по всей бутылке, а их как и не бывало. Мастер по-прежнему молчал. Правда, покосился на меня, но промолчал. Все те же заученные жесты, все та же невозмутимость. Робот какой-то, а не человек. Даже ни разу не выругался.
— Послушайте, как это у вас получается? — встав на цыпочки, закричал я ему в ухо.
— Обыкновенно: стекло жиже, дуть надо тише. Стекло гуще — дуть надо пуще. А ты подтянись.
— Как? — полез я напролом за рецептом.
— Женись. Не будешь голову всякой чепухой забивать. Вон Этха так и просится.
А Этха тут как тут. Перекричала ветрогон: «Эй, Макар, поменьше целуй свою девушку!» Намекнула на опухшие губы, бестия.
А может быть, он слишком самоуверен? Неужто из бракованной баночки можно сделать уникальную бутыль?
В обеденный перерыв я со всех ног помчался вниз узнать результаты своей халтуры.
Здесь шумно и гулко, мерно гудели сеточные транспортеры, медленно-медленно уползающие в пасть лерной печи. На сетке, как куклы на витрине, сверкали еще теплые бутыли, наши и чужие. Из другого конца лерной печи они выходили холодными, невзрачными, другие просто треснули, некоторые осели и походили на целлофановый ком, иные склеились, как сиамские близнецы.
А наши?
Целехоньки!
Я сразу узнал свои рисунки на плечах бутыли: личное клеймо мастера, сам чертил его обрубком шланга. Сгорая, резина оставляет ровный белый след. Ногти, оплавляясь при этом, тоже оставляют белый след.
Браковщица тетя Маша сидела на боковине транспортера, разложив на коленях ломтики аккуратно нарезанной колбасы, — обедала без отрыва от производства.
Ух, как я устал! Ух, как я проголодался! Я съел бы сейчас метра полтора колбасы.
— Как у Игнатьева, тетя Маша?
— А ты с ним?
— С ним.
— Повезло.
— Кому?
— Тебе, конечно, к такому мастеру попал.
— К какому? — притворился я.
— К Игнатьеву. Он как-то года полтора назад сделал бутылку, а в ней еще одна, поменьше, а в той еще одна. Штук десять друг в дружку понапихивал. Куда-то на выставку повезли, да разбили, говорят, по дороге. А почему не Протасов?
— А почему Протасов?
— Так у него мать померла. Он с младшим братишкой сиротами остались. Протасову зарабатывать надо.
— Ладно, тетя Маша, как у нас?
— Он еще спрашивает. Я возле ваших бутылей на цыпочках хожу. Во, полюбуйся.
Я взял самую тяжелую, разглядывал, щупал, гладил — ничего особенного, бутыль как бутыль. Самая обыкновенная, из тех, в которых серную кислоту хранят.
Я только слегка тюкнул ребром ладони по стенке бутыли, а она разлетелась.
Тетя Маша погрозила мне пальцем — не балуй.
Художники своих секретов не скрывают. Смотри, учись, А стеклодувы — нет. Можешь смотреть, можешь заучивать жесты. Только зря. Не дано. Ему дано, а тебе не дано. Он Игнатьев. Его отец был Игнатьевым, его дед был Игнатьевым и прадед… Все они совершенствовали свое ремесло; вот им дано, а тебе, человеку случайному, не дано. И никакое образование тут не поможет.
Работаешь ты с ним рядом, даже помогаешь ему, один и тот же сосок во рту мусолишь, а отчего бьются бутыли — так и не поймешь. Да и он сам, думаю, толком не знает. Батька сказал — делай так-то, сын и делает.
Да еще воск, которым при обжиге обрабатывают трубку, он не со склада берет, а вынимает из-за пазухи, завернутым в белоснежную тряпочку.
Да еще в трубку не дует, а «дышит»…
Легко сказать! В смену больше сотни бутылей! Надышишься. На последнем медосмотре не хватило шкалы прибора, которым измеряют объем легких. Даже врач удивился: «Сколько лет?» — «Двадцать». — «Исполнилось?» — «Нет еще». — «Значит, девятнадцать, в молодости все прибавляют».
А результат? Постучишь по бутыли — и будто разорвал обручи, которыми сдерживалось напряжение.
Я думал, мастер сам прогонит меня, оказалось — наоборот, накричал мне в ухо:
— Жаль расставаться! С тобой не соскучишься. Протасов идеальную баночку гонит, помереть с тоски можно.
Мне тоже было жаль расставаться с хорошим мастером, который, кстати сказать, не лишен еще и чувства юмора.
Мне было грустно от того, что придется уступить Протасову место, на которое мечтает попасть каждый. Ему зарабатывать надо.
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления