Онлайн чтение книги
Классическая проза Дальнего Востока
Повесть о блистательном принце Гэндзи
I Фрейлина Кирицубо
Мурасаки Сикибу
В одно из царствований при дворе служило много статс-дам и фрейлин. Среди них находилась одна, которая хотя и не была особо высокого звания, но пользовалась исключительным расположением государя. С самого начала благородные особы, бывшие высокого мнения о себе, третировали ее как выскочку и злобствовали. Тем более волновались фрейлины одного с нею ранга или ниже ее. Даже исполняя свои утренние и вечерние обязанности во дворце, она этим только раздражала людские сердца и навлекала на себя злобу. И оттого ли, что этой злобы накопилось много, только она стала слабеть, чувствовала себя беспомощной и почти безвыходно проживала у себя в родном доме.
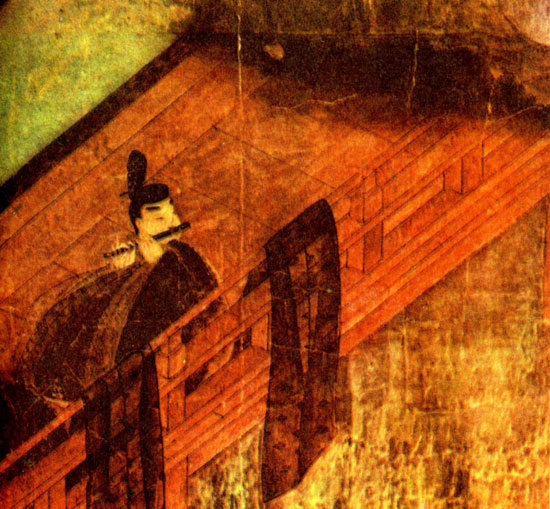
Повесть о блистательном принце Гэндзи. Горизонтальные свитки с живописью. Глава 'Судзумуси' (II). Первая половина XII в. Фрагмент.
Государь же только сильнее привязывался к ней, не обращая внимания на всеобщее порицание. Это была любовь, о которой можно было бы рассказывать в последующие века. Придворные - и высшие и низшие - без стеснения косились и говорили: "Уж очень ослеплен государь этой любовью! В Китае именно из-за таких дел мир приходил в беспорядок и возникали беды... " Понемногу все кругом обратилось против нее, она превратилась в помеху для всех. Стали даже вспоминать случай с Ян Гуй-фэй... Много было неприятностей у нее, но все же она жила среди всех, опираясь на беспримерную к себе любовь государя.
Отца ее, Дайиагона, уже не было на свете, но мать - женщина благородного происхождения - во время дворцовых церемоний Устраивала все, как нужно, так что ее дочь ничем не уступала тем высоким особам, у которых были живы оба родителя и положение в свете которых в это время было блистательным. Но все же, поскольку не было у нее особого могущественного покровителя, случись что - и у ней ни оказалось бы никакой опоры, она была бы беззащитна.
Был ли тесен их союз уже в предшествующей жизни, только родился у них прекрасный, каких не бывает на свете, мальчик. Государь, все время в тревоге ждавший: "Ах, когда же, когда?" - повелел сейчас же принести его к себе и взглянул: действительно, это был младенец редкой красоты. Первый принц был рожден статс-дамой - дочерью Удайдзина, у него была, таким образом, могущественная родня, и за ним все чрезвычайно ухаживали, как за бесспорным будущим наследником престола; и все же он никак не мог идти в сравнение с красотой этого ребенка. Поэтому государь хоть и дарил тому - первому - свою высокую любовь, но по-обыкновенному; этого же мальчика лелеял, как драгоценность, - беспредельно.
Мать мальчика с самого начала не была на положении простой придворной дамы. К ней относились вообще как к благородной, она считалась принадлежащей к высшему кругу. Однако государь уж слишком упорно держал ее при себе и во время празднеств, во всех случаях, когда что-либо устраивалось, призывал ее первую. Случалось, что он, - после ночи, проведенной ею в его опочивальне, - так и оставлял ее у себя на весь день, не отпуская ни на шаг. Естественно поэтому, что она стала в глазах людей представляться чем-то вроде простой служанки. После же того, как у нее родился ребенок, государь стал еще более по-особому относиться к ней, так что у статс-дамы - матери первого принца - появились даже опасения: "Если бы что случилось с наследным принцем, как бы на его месте не оказался этот ребенок!"
Эта статс-дама раньше других появилась во дворце, и любовь государя к ней не была обычной; у ней были и еще дети от него. Поэтому государь только ее упреки и принимал к сердцу и с ними считался. Та же фрейлина, - хоть и полагалась во всем на высочайшую защиту, но кругом было столько людей, преследующих ее, ищущих у ней одни недостатки, что она чувствовала себя бессильной, беспомощной и только терзалась.
Помещением ей служила часть дворца, названная Кирицубо. Обычный путь ее поэтому лежал мимо покоев многих высоких особ; она беспрестанно, таким образом, проходила пред их взорами, и понятно, что этим снова раздражала их сердца. Даже когда она шла к государю, то и тут - как это было чересчур часто - случались даже неподобающие вещи: на перекидных мостиках, в галереях - там и сям по пути ей устраивали всякие гадости, и подолам платьев сопровождающих и встречающих ее женщин доста валось очень сильно. Бывало, что перед ней захлопывали дверь того коридора, по которому она должна была непременно пройти, причем по уговору делали это и с другого конца; мучили и преследовали ее всячески. И оттого, что во всех случаях у ней только росли одни огорчения, она страдала все сильней и сильней. Тогда государь, все более жалея ее, пожаловал ей "ближний покой" в Кородэне, повелев перенести в другое место помещение той фрейлины, которая с давних пор там жила. Как безудержна была поэтому злоба этой фрейлины!
Когда маленькому принцу исполнилось три года, обряд первой хакама государь повелел совершить со всей пышностью, вынеся из казнохранилища и сокровищницы всякие драгоценности, чтобы ни в чем не было хуже того, как было устроено для первого принца. И по этому случаю всяких пересудов было немало. Однако наружность маленького принца, нрав его были такими замечательными, казались такими необычайными, что никто не был в силах злобствовать на него. Люди же, понимающие толк в вещах, только широко раскрывали глаза от удивления и говорили: "И появляются же на свете такие существа!"
В этом же году, летом, фрейлина-мать почувствовала себя несколько плохо и собралась уехать из дворца домой. Государь, однако, никак не давал своего разрешения на это. Так как все эти годы она постоянно прихварывала, он привык уже к этому и только говорил ей: "Попробуй еще немножко побыть здесь!" Однако с каждым днем она чувствовала себя все хуже и в каких-нибудь пять-шесть дней так ослабела, что к государю с плачем обратилась уже сама ее мать, и только тогда он разрешил ей уехать.
Боясь, как бы не случилось и тут чего-нибудь неприятного, она оставила маленького принца во дворце и уехала одна потихоньку.
Всему приходит конец; увы, государь не мог ее более удерживать и с невыразимой скорбью помышлял о том, что даже не провожает ее... Всегда такая очаровательная и прекрасная, она теперь совсем исхудала; сильнейшая тоска щемила ее сердце, но выразить ее словами она была не в силах. Она прямо таяла; казалось: есть ли она еще или нет ее? Государь, видя ее такой, перестал сознавать и прошлое и будущее и только со слезами повторял ей всевозможные клятвы и уверения. Но она даже ответить ему не могла. Взор ее был совсем безжизненный, она слабела все более и более и лежала, как будто уже ничего не сознавая, так что государь совсем растерялся. "Ах, что делать, что делать?" - восклицал он.
Государь хоть и распорядился сам о носилках, но, войдя к ней, опять не находил в себе силы отпустить ее. "Ведь мы уговаривались с тобой: никому не уходить ни раньше, ни позже другого в этот путь, так быстро ведущий к концу! Скажи, ведь ты не покинешь меня здесь одного, не уйдешь... " - говорил он, и она с тоскою смотрела на него:
"Есть конец пути,
Есть конец пути разлук,
И печален он.
Но хочу тот путь пройти!
Жизнь, как ты желанна мне!
Если б я знала, что так выйдет... " - проговорила она, и дыхание ее совсем прерывалось. Было похоже, что она так многое хотела сказать, но она так страдала, была такой слабой...
"Нет, нужно оставить ее здесь! Я должен видеть до конца, - что бы с ней ни случилось!" - подумал государь. Но были уже позваны надлежащие люди: сегодня должны были начаться моления о выздоровлении; они уже пришли и торопили: "Сегодня, с вечера... " И государь, как ни было это ему горько, принужден был отпустить ее.
Все сердце государя было охвачено горем, он не мог сомкнуть глаз, не мог дождаться утра. Время вернуться посланцу, посланному вслед, еще не пришло, и государь все время пребывал в тревоге. "Только прошла полночь - и не стало ее!" - сказали там посланцу. В доме ее поднялся плач и шум, и упавший духом посланец вернулся во дворец. Сердце государя, услышавшего эту весть, пришло в полное смятение, он ничего более не сознавал и скрылся к себе.
Что касается маленького принца, то государю - даже и в таком состоянии - очень хотелось все время, как и до сих пор, видеть его около себя, но так как не бывало еще примера, чтобы в таких случаях ребенок оставался во дворце, маленький принц должен был покинуть дворец. Он не понимал, что произошло что-то, и только дивился, видя, в каком смятении находятся, как плачут все прислуживающие ему, как беспрестанно льет слезы и сам государь.
Когда все благополучно - и тогда такое расставание не может не быть грустным; насколько же печально было оно теперь - и сказать нельзя!
Всему наступает конец, и вот уже справлены полагающиеся обряды. "Я унесусь ввысь вместе с нею, в том же дыме!" - рыдала и металась мать умершей и села в экипаж провожавшей тело служанки. Обряд сожжения совершили со всей торжественностью в месте, называемом Атаго. Каково же было душевное состояние той, которая прибыла сюда! "Когда я смотрю на ее бездыханное тело, мне все кажется, что она еще жива. Но ведь думать так - бесполезно, и поэтому лучше, если я уж собственными глазами увижу, как она превратится в пепел... Тогда, по крайней мере, я буду знать, что ее нет на свете!" - так, как будто здраво, рассуждала она, но была в таком волнении, что по дороге чуть не падала с экипажа. "Мы так и думали!" - говорили люди и не знали, что и делать с ней.
Из дворца прибыл посланец. Он привез известие, что умершая фрейлина возводится в третий ранг. Явился особый посол и прочитал соответствующий высочайший указ. И всем было при этом так грустно. Государь горько сожалел, что не успел пожаловать ее хоть званием статс-дамы, и теперь возводил ее хоть в следующий ранг.
Даже и тут нашлось немало людей, которые вознегодовали. Но те, кто понимал толк в вещах, теперь вспоминали, как прекрасна была ее наружность, какой мягкий был у нее нрав, как приятна она была, как трудно было ее не любить. С ней были жестоки, на нее злобились только из-за неподобающего отношения к ней государя. Но ее милый облик, ее чувствительное сердце теперь с любовью вспоминали даже служанки. Вероятно, о таких случаях и говорится: "Только когда умрешь... "
Незаметно шли дни. Государь и во время всех последующих обрядов неукоснительно посылал в дом почившей осведомляться обо всем, и чем дальше шло время, тем безысходнее становилась его печаль. Он совершенно прекратил даже ночное служение при себе высоких особ и проводил все дни и ночи в слезах, так что наблюдавшие его - и те превращались в напоенную росой осень. "Вот любовь! Даже после смерти она продолжает не давать другим покоя". Статс-дамы Кокидэн все еще никак не могли простить ей любви государя. Даже при виде старшего принца государь только вспоминал о прелести маленького; слал к нему своих ближайших служанок, кормилицу и всячески разузнавал о нем.
Однажды вечером, когда поднялся "пронизывающий поля" и сразу стало прохладно, она вспомнилась государю еще сильнее, чем обыкновенно, и он послал к ней в дом камер-фрау из семьи лучников. Он отправил ее вечером, когда так красива была луна, а сам так и остался в неподвижной задумчивости. В такие часы он когда-то просил Кирицубо играть для него... Ему представился, - как будто она была совсем рядом с ним, - облик ее; как извлекала она своими пальчиками совсем особые звуки, как отличались от всех прочих слова ее, даже случайно произнесенные... Это было еще хуже, чем "явь во тьме".
Когда камер-фрау достигла дома умершей и въехала в ворота, зрелище, представившееся ее взору, было очень печально. Хотя это и было жилищем вдовы, но так как она все время думала о своей дочери, то до последнего времени держала дом в полном порядке, и кругом все имело приветливый вид. Но теперь, когдв. она, погрузившись во мрак, пребывала в горе, трава выросла высоко, при "пронизывающем поля" все приняло еще более неприютный вид, и только свет луны беспрепятственно проникал внутрь, "не смущаясь разросшейся буйно травой".
У южного подъезда камер-фрау сошла с экипажа, и мать умершей сразу даже вымолвить слова не могла. "Мне так горько, что я еще живу на свете! Когда же ко мне - сквозь усеянные росою кусты - приходит вот такая посланная, становится совсем стыдно!" -проговорила она, плача, и видно было, что ей действительно очень тяжело. "Навещавшая вас до этого камер-фрейлина уже рассказывала государю: "Когда я прихожу туда, все сердце надрывается, вся душа болит... " И действительно, даже мне, ничего не понимающей, и мне трудно вынести все это... " - сказала посланная и, немного помедлив, стала передавать высочайшие слова.
"Первое время я блуждал во тьме, думал: не сон ли это? Но мало-помалу стал приходить в себя и вижу, что уже не проснуться от этого сна! Это так мучительно! Мне не с кем даже обменяться словами, -что предпринять? Не приедешь ли ты ко мне тайком? И маленький принц, бедняжка! Живет он посреди напоенных росой... Мне так жалко его! Приходи скорей!" Государь не мог даже договорить как следует и захлебнулся слезами. А тут еще он не мог не подумать, что другие сочтут его слабым... и вид у него был такой страдальческий, что я, не дослушав до конца его речи, прямо поехала к вам", -рассказывала камер-фрау и передала ей высочайшее послание. "Мои глаза не видят более, но при свете таких высокомилостивых слов... " - сказала мать и взяла послание.
"Я ждал: пройдет время, и горе мое немножко рассеется. Но дни идут за днями, и вместе с ними скорбь моя только становится невыносимее. Меня беспокоит, что с маленьким принцем. Как жалко, что мы не заботимся о нем вместе с тобою! Приведи его, будем иметь его подле себя, как память о прошлом. Будем воображать, будто она все еще с нами", - убедительно писал государь.
"На полях Миягино
Сцепляет росинки ветер.
Слушаю звуки его,
И волнует мысль:
Что с маленьким Хаги?"
Было написано и это, но читавшая не смогла прочитать до конца. "Мне так горько, что моя жизнь длится так долго. Мне стыдно даже того, "что подумает обо мне сосна", когда узнает... Тем более же я должна стыдиться, будучи во дворце. Я не раз уже слышала подобные милостивые слова, но вряд ли могу и представить себе что-нибудь такое. Что думает маленький принц? Вероятно, только и помышляет о том, чтобы уехать во дворец, и я с грустью считаю, что он прав. Вот что я думаю, и так доложите государю! Я - в трауре, и маленькому принцу жить со мною не пристало", - говорила мать.
"Маленький принц, конечно, уже почивает. Я хотела взглянуть на него и подробно донести потом государю, но государь, верно, ждет меня, да и уже поздно будет", - сказала камер-фрау и заторопилась.
"Когда вы со мною, как будто одним краешком рассеивается мрак сердца моего, блуждающего во тьме. Мне так хочется побеседовать с вами еще. Зайдите ко мне самой, когда будете свободны. До сих пор вы заходили ко мне лишь в случае радости, торжества, а теперь я вижу вас вот с такими вестями. И опять, опять думаю: как несчастна моя жизнь! Дочь моя с детства отличалась и умом и сердцем, и покойный муж мой - дайнагон - до самой своей кончины говорил мне: "Непременно исполни мое заветное желание: отдай ее на службу во дворец! Пусть я и умру, но ты не иди против моих намерений, мне будет это очень горько", - так непрестанно наказывал он мне, и я хоть и считала, что жизнь во дворце без покровителя и защиты может привести лишь к беде, все же не решилась пойти против его предсмертной воли и отдала ее во дворец. Там она удостоилась исключительной, превышающей ее достоинства высочайшей милости и жила посреди всех, тая стыд своего незначительного звания. Но злоба людская все росла, неприятности все увеличивались, и в конце концов вот так и получилось: она умерла безвременной смертью. Так что теперь я думаю иначе: какой роковой была для нее эта государева милость! Впрочем, я говорю так потому, что мое безрассудное сердце блуждает во тьме... " Мать не кончила речи и захлебнулась в слезах. Тем временем спустилась ночь.
"Государь тоже говорит так: "Я относился к ней от всего сердца, а оказалось, что этим почему-то привлекал лишь взоры людей. Вероятно, суждено было всему быть таким недолговечным. Теперь я вижу, что это был несчастный союз. Я никак не думал, что как-нибудь задену чье-либо сердце, а вышло, что из-за нее я навлек на себя злобу многих, от которых этого и ожидать было нельзя. И в конце концов теперь покинут ею, и нечем мне успокоить свое сердце. Люди начинают относиться ко мне все хуже и хуже, я совсем превратился для них в какого-то глупца... Хотелось бы мне знать мое прежнее существование!" - непрестанно повторяет он, и соленые капли только и льются с его рукава", - так говорила камер-фрау и никак не могла кончить.
"Уже очень поздно, мне надо еще сегодня обо всем доложить государю", - заторопилась она.
Луна склонялась к закату. Небо было чисто и прозрачно. Ветер веял прохладой. Голоса насекомых в "селениях трав" как будто исторгали слезы. Трудно было уйти из этого обиталища травы...
"Сколько бы ни пели
Голоса судзумуси,
Все равно:
Долгая ночь коротка им,
Коротка она и для слез", -
сказала камер-фрау и никак не могла сесть в экипаж.
"Уж и так много
Голосов судзумуси
На лугу из асадзи.
Ты же еще росинки добавляешь,
О человек, с облаков!
Я готова даже жаловаться на вас!" - сказала вслед ей мать.
Не такой был момент, чтобы подносить какие-нибудь дорогие подарки, поэтому мать дала посланной - на память о дочери - только то, что было нужно: полный набор одежд да прибор для прически.
Молодые служанки, конечно, грустили о печальном происшествии, но им, привыкшим все время проводить во дворце, было здесь очень скучно, они все время вспоминали про государя и убеждали мать умершей Кирицубо поскорей отправиться во дворец. Но та рассуждала: идти вместе с маленьким принцем и ей, находящейся в трауре, - значит навлечь на себя всеобщее осуждение; не видеть же принца хоть короткий миг - значит не находить себе места от беспокойства. И она не могла так просто отвести маленького принца к государю.
Камер-фрау с жалостью увидела, что государь еще не пришел к себе в опочивальню. Он все еще любовался тем, как красив, весь в цвету, был садик перед ним, и, призвав к себе нескольких женщин, - только тех, что отличались тонкостью чувств, - тихонько беседовал с ними. Он говорил с ними только об одном: о картинах-иллюстрациях к "Песни о бесконечной тоске", которые повелел нарисовать государь Тэйдзиин, о песнях на языке ямато и о китайских стихах, которые повелено было сложить поэтам Исэ и Цураюки на темы тех картин... Он попросил прибывшую камер-фрау рассказать обо всем подробно, и та тихонько доложила ему о виденной ею печальной картине.
Государь прочитал ответ матери:
"Я не знаю, как и быть при таких высоких милостях. Но даже при столь милостивых словах сердце мое все равно в смятении.
То дерево, чья сень
Защищала от знойного ветра,
Засохло, и оттого
Тревожит сердце теперь
Маленький Хаги".
Ответ был несколько неподобающий, но государь простил, считая, что это оттого, что сердце у ней расстроено. "Нет, ни за что не покажу людям, что я так сильно опечален!" - уговаривал он сам себя, но пикак не мог удержаться. Он собрал в своей памяти все, - даже год и месяц, когда он в первый раз ее увидел, - передумал снова обо всем. "Тогда было жалко терять и одну минуту, а теперь вот так проходят и дни и месяцы!" - с удивлением размышлял он.
"Я все время хотел, чтобы не оказалась напрасной та радость, с которой мать, во исполнение предсмертной воли покойного Дайнагона, так хорошо осуществила его желание о службе во дворце. А оказалась эта радость напрасной!" - говорил государь, и ему было очень грустно. "Но вот подрастет маленький принц, и тогда, несомненно, найдется подходящий случай. Будем надеяться, что мать умершей проживет еще долго", - сказал он.
Государь взглянул на подарки. "Ты навестила жилище той, которой уж нет. О, если бы это была шпилька для волос , - свидетельство... " - так думал он, но думы эти были бесплодны.
"О, если б здесь был
Кудесник тот,
Что ушел ее искать...
Хоть из слов его я знал бы,
Где живет ее душа".
В образе Ян Гун-фэй, нарисованной на картине, -хоть и был он написан искусным художником, но так как все же есть предел Для кисти, - было мало очарования. Она была действительно похожа на лотос в пруду.., на иву во дворце... ее наружность была прекрасна... Но император вспоминал, как была привлекательна и мила Кирицубо, и находил, что не было средств изобразить ее - ни в красках цветов, ни в звуках птиц. Государь постоянно уславливался с нею: "Будем двумя птицами об одном крыле, будем двумя ветками из одного ствола... " -но не осуществилось это, и так бесконечно было горько.
Государь - и при звуках ветра, и при голосах насекомых - только грустил, а Кокидэн в течение долгого времени даже не появлялась в ближних покоях. При красивом свете луны у ней до самой ночи шло веселье. "Очень нехорошо поступает", - думал государь. Дворцовые слуги и служанки, наблюдавшие его в последнее время, говорили: "Бедный!" Та же, будучи особой резкой и своенравной, не считалась с происшедшим и, не думая о нем, вела себя, как хотела. Луна зашла,
"И в заоблачных высях
Всё слезами заволоклось,
Заволоклась осенняя луна.
О, как же она будет ясной
Там, в жилище асадзи?" -
волновался государь и не ложился, пока не догорели уже все светильники .
Послышались ночные сторожевые клики, было, значит, уже два часа ночи. Думая о том, что скажут люди, государь вошел в опочивальню, но заснуть ему не удалось. Встав поутру, он вспомнил слова: "Не зная, что уже рассвело... " И как будто был склонен по-прежнему пренебречь делами правления . Он не стал вкушать и пищи. До утреннего завтрака он дотронулся только для вида, не обратил никакого внимания на яства на большом столе, так что прислуживавшие при завтраке только вздыхали, наблюдая его страдальческий вид. Все, кто только ни был вблизи него, - мужчины, женщины, говорили между собой: "Какое ужасное событие!" - и вздыхали: "Верно, судьбою было так предрешено. Государь не обращал внимания на упреки и порицания стольких людей и утратил всякий рассудок... А теперь еще идет как будто и к тому, чтобы совершенно забросить мирские дела. Это весьма нехорошо!" - шептались они и опять приводили пример с другим императором в другой стране...
II В дождливую ночь
...Лил долгий, беспрерывный дождь. Во дворце по какому-то случаю блюли пост, и Гэндзи целыми днями пребывал в личных покоях. Его тесть - канцлер все это время был недоволен им, досадовал на него за его легкомыслие, но все же продолжал Посылать ему различные наряды и всякие редкостные вещи. Сыновья же канцлера постоянно бывали у Гэндзи, навещая его в его дворцовых покоях.
Один из них - царской крови по матери, бывший тогда в звании Тюдзё, был особенно дружен с Гэндзи. Они вместе веселились, вместе развлекались, и Гэндзи чувствовал себя с ним ближе и приятнее, чем со всеми другими.
У этого Тюдзё также не лежало сердце к своему жилищу у тестя, где о нем так заботились и за ним так ухаживали: подобно Гэндзи, он был большим ветреником. В доме отца у него также было прекрасно устроенное помещение, и когда Гэндзи случалось бывать у своего тестя, Тюдзё не отходил от него: он проводил с Гэндзи целые дни и ночи, - то за наукой, то за удовольствиями, не отставал, в общем, от него и ни в чем ему особенно не уступал. Они были неразлучны, и естественно, что уже более не стеснялись друг друга и не скрывали друг от друга ничего, что у них было на сердце: так дружны они были.
И вот в этот сырой вечер, когда все время тоскливо лил дождь, во дворце было мало народу. И у Гэндзи в покоях было тише, чем обыкновенно. Они сидели вдвоем с Тюдзё у светильника и читали.
Тюдзё обратил внимание на лежавшие на этажерке рядом с Гэндзи различные письма. Взяв их в руки, он чрезвычайно ими заинтересовался и во что бы то ни стало захотел узнать их содержание.
"Будь здесь что-нибудь достойное внимания, я тебе, пожалуй, показал бы. Но, право, все эти письма ничего не стоят". И Гэндзи не давал ему читать.
"Именно вот такие, написанные без всяких стараний... такие, которые ты не хотел бы показывать другим, - вот они-то меня и интересуют. А обычные письма - они знакомы и мне, хоть я, конечно, в счет и не могу идти... Обычные письма присылают те, кому это полагается, даже и мне, хоть я и не могу равняться с тобой... Интересно взглянуть на письма интимные, где какая-нибудь женщина ревнует своего возлюбленного иль где она в сумерках нетерпеливо ждет его... " - так упрекнул своего друга Тюдзё, и Гэндзи перестал мешать ему: ведь те письма, которые были ему особенно дороги, которые надлежало бы таить от всех, он не положил бы здесь, на этажерке, на виду у всех; такие у него были запрятаны далеко, а эти - здесь... они, конечно, были второстепенные.
Проглядывая все эти письма, Тюдзё заметил: "Ну и разные же бывают женщины на свете!"-и стал допрашивать Гэндзи: "Это письмо от такой-то? А это - от такой-то?" - и то разгадывал верно, то высказывал совершенно несообразные предположения...
"Вот потеха!"-подумал Гэндзи. Никакого прямого ответа он Тюдзё не давал, только морочил его, пока, наконец, не отобрал у него все письма и не спрятал их. "У тебя самого их, наверно, много - проговорил он. - На твои письма хотелось бы мне взглянуть... Покажешь, - и дверцы этого шкафчика раскроются для тебя настежь!"
"Ну, вряд ли у меня найдется что-нибудь, на что стоило бы тебе взглянуть!" - возразил Тюдзё, и у них начался такой разговор.
"Да! Мало женщин, о которых можно было бы сказать: "Вот это так женщина!" Мало таких, которые были бы безупречны во всем... Из своего знакомства с ними я все более и более убеждаюсь в этой истине. Есть, конечно, - и даже довольно много - женщин, кое-что смыслящих в нежных чувствах; женщин, что умеют искусно писать, умеют вовремя ответить подходящим стихотворением...
В известной среде их можно найти довольно много. Но если задумаешь выделить какую-нибудь одну, очень редко случается, чтобы какая-нибудь из них смогла бы удовлетворить всем требованиям.
По большей части женщины чрезвычайно гордятся тем, что каждая из них умеет, и ни во что не ставят всех остальных... Это действует так неприятно! Слышишь, например, о какой-нибудь девушке, что всю свою юность проводит в родительском доме, никуда не выходя; около которой безотлучно родители: лелеют ее, берегут... Слышишь, что у ней такие-то и такие достоинства, - и сердце начинает волноваться. Красива будто собою, не очень робка и застенчива, молода, не затронута еще светом; отдается целиком, по примеру других, одному какому-либо искусству - музыке или поэзии, достигает в этом успеха... Видевшие ее - умалчивают о ее недостатках и расписывают лишь одни ее совершенства. Ну, как станешь относиться к такой - так, без всякого основания, - с пренебрежением иль недоверием: "Неужто, мол, так и на самом деле? Не может этого, мол, быть!" Знакомишься, чтоб убедиться, так ли это, - и редко случается, чтоб по мере знакомства с нею такая женщина не стала терять в глазах все больше и больше", - вздыхал Тюдзё с удрученным видом.
Гэндзи слушал все это и, хоть и не во всем, - но все же кое в чем был согласен. Улыбнувшись, он заметил:
"А разве существуют женщины, совершенно лишенные каких-бы то ни было достоинств?"
"А кто же с такими имел бы дело?" - воскликнул Тюдзё. "Таких женщин, которые бы положительно ни к чему не были пригодны, которые вызывали бы одно лишь чувство досады, таких женщин так же мало, как и совершенных, - таких, которых можно было бы считать замечательными во всех отношениях. Эти последние - только на вид совершенны. Вполне естественно: рождены они в благородных домах, получили надлежащее воспитание, - и если и есть у них недостатки, они все прикрыты. Вот в средних слоях общества - там у каждой женщины виден ее нрав, все ее сердце... Там много всяких различий. Что же касается тех, кто принадлежит к низшим слоям, - ну, на тех и внимания обращать не стоит!" - говорил Тюдзё с видом человека, от которого ничего не утаилось. Гэндзи, заинтересовавшись, спросил:
"Что это за слои, о которых ты говоришь? Кого ты относишь к этим трем слоям? Ведь случается, что люди - благородные по происхождению - по какой-нибудь причине теряют свое значение, их положение становится низким, и они более ничего уже собою не представляют. Или же так: человек простой, но возвышается до звания аристократа; начинает с самодовольным видом разукрашивать свой дом, старается никому не уступить ни в чем... Куда следует отнести вот таких?"
В этот момент появилось двое новых приятелей Гэндзи - Самма-но ками и То-но сикибу-но-дзё, зашедших к нему вместе прокоротать время поста. Оба они были большими ветрениками и понимали толк в вещах.
Тюдзё радостно приветствовал их, и стали они рассуждать и спорить по поводу различий в женских характерах в зависимости от разных слоев общества. И наговорили они столько такого, что и слушать бы не хотелось!
Первым заговорил Самма-но ками.
"Как бы человек ни попадал в аристократы, но если происхождение у него не такое, какое требуется, - и отношение света к нему, несмотря ни на что, совершенно особое. С другой стороны, - какого бы благородного происхождения человек ни был, но если он почему-нибудь - благодаря ли отсутствию поддержки в других иль просто в силу изменившихся обстоятельств - теряет свое положение, то природа природой, но среди всех житейских недостатков и в нем появляются скверные черты. И тех и других, по-моему, следует отнести одинаково к среднему слою общества.
Иль возьмем, например, провинциальных сановников... Служа в провинции, они образуют как бы свой особый класс, однако и в их среде наблюдаются свои различия. В наше время стало возможным и из их среды выделять некоторых - вполне достойных во всех отношениях.
Точно так же: по сравнению со скороспелой знатью - куда лучше некоторые из тех, кто хоть и не дошел еще до звания советника, хоть и находится еще всего лишь в третьем или четвертом ранге, но тем не менее пользуется общим расположением света, сам - не такого уж низменного происхождения, живет себе в свое удовольствие. Так как в доме у таких недостатка ни в чем нет, то и воспитывают они своих дочерей обыкновенно, не щадя средств, - блестяще. И женщин, пренебрегать коими никак не приходится, в их среде появляется очень много. Случается даже - и нередко, - что эти женщины, появляясь при дворе, снискивают совершенно неожиданное для них высочайшее благоволение".
"Выходит, значит, что женщин следует различать в зависимости от степени их богатства?" - заметил, смеясь, Гэндзи.
"На тебя не похоже! Говоришь что-то несуразное... " - напал на него Тюдзё.
Самма-но ками меж тем продолжал:
"Когда в тех семьях, где все хорошо, и род и репутация, появляется вдруг женщина с каким-нибудь недостатком, все вокруг начинают говорить: "Как это из такой семьи и могла выйти такая особа?" - и отвертываются от нее. А если такая женщина прекрасна во всех отношениях - считают это само собою разумеющимся, никто не подивится, никто не скажет: "Вот это изумительно!"
Не буду говорить о высших из высших... до которых нам не достать. Скажу только, что мне бесконечно нравятся те случаи, когда где-нибудь в заброшенном, заросшем травою, ветхом домике вдруг оказывается сокрытым в полной неизвестности для всех, какое-нибудь прелестное существо. "Как это так она могла остаться до сих пор не замеченной никем?" - подумаешь при этом: так не ожидаешь этого всего... И сердце на диво привязывается к ней. Взглянешь на ее отца: старый, противный, толстый... старший брат - с омерзительной физиономией... И вдруг, - именно у них в доме, где никак не ждешь ничего особенного, - где-нибудь там, на женской половине, оказывается дочь - с самыми лучшими качествами, не совсем неумелая даже и в изящном искусстве! Пусть это будет даже какой-нибудь пустяк, но может ли это не нравиться именно своей неожиданностью? Разумеется: включать их в число совершенно безупречных во всех отношениях - нельзя, но и пройти равнодушно мимо них - тоже трудно", - закончил Самма-но ками и бросил взгляд на Сикибу-но дзё.
"Моя сестра пользуется как раз такой репутацией... Не о ней ли он говорит?" - подумал последний, но не промолвил ни слова.
"Что такое он там говорит! Хороших женщин трудно найти даже в самом высшем кругу... " - подумал Гэндзи.
В мягко облегающем тело белом нижнем кимоно, с накинутой свободно поверх него одной лишь простой верхней одеждой, с распущенными завязками - фигура Гэндзи, дремавшего, прислонившись к чему-то, при свете светильника была очаровательна... так, как хотелось бы даже для женщины! Да! Для такого, как он, - даже если выбрать высшую из высших, и то, казалось, было бы недостаточно!
Остальные трое продолжали говорить о различных женщинах. Самма-но ками снова повел речь:
"Посмотришь на женщин в свете: как будто бы все они хороши: но захочешь сделать какую-нибудь из них своею, связать со своею жизнью, - оказывается, так трудно выбрать даже из очень многих. Так бывает и с мужчинами: так трудно найти такого человека, который мог бы, служа в правительстве, быть надежной опорой государства, который оказался бы вполне, по-настоящему, пригодным для этой цели. Впрочем, в деле управления государством положение таково, что, как бы человек ни был мудр и способен, он один иль с кем-нибудь вдвоем править не может: высшим помогают низшие, низшие подчиняются высшим... Каждый уступает другому его область. В тесных же пределах семьи хозяйка дома должна одна думать обо всем. И вот тут-то и обнаруживаются недостатки и скверные черты характера. Думаешь примириться с этим обстоятельством: "Ну, - не это, так то. Не в одном, так в другом", - но даже и при такой снисходительности достойных оказывается мало. Стремишься вовсе не к тому, чтобы из пустой прихоти сердца переходить от одной к другой. Нет! Хочешь найти себе одну-единственную, но такую, которой можно было бы довериться вполне. Ищешь такую, которая бы не требовала от тебя больших забот; у которой не было бы таких черт, кои нужно было бы постоянно исправлять; которая была бы тебе вполне по сердцу... ищешь и не находишь! Бывает так: ладно! Не гонишься за тем, чтобы все обязательно согласовалось с твоими желаниями... Останавливаешься на какой-нибудь женщине потому, что тяжело ее бросить, трудно порвать раз начавшуюся связь. Становишься верным и преданным мужем... И женщина, с которой живешь в таком союзе, начинает как будто представляться такою, какой быть она должна для сердца. Но... осмотришься вокруг себя... понаблюдаешь мир... сравнишь - и окажется вовсе не так! Оказывается - ничего замечательного в ней никогда и не было вовсе... Да, друзья! Вот взять хотя бы вас... Для вас нужна самая лучшая, самая высшая, - и где же найдется такая, которая была бы вам под пару?
Иль вот: встречаешь женщину прекрасную собой, молодую, цветущую... заботящуюся о себе так, чтоб и пылинка к ней не пристала. И вот: напишет письмо, - так нарочно подберет лишь самые общие выражения... тушью едва коснется бумаги. Приходишь от этого в сильнейшее раздражение, размышляешь: "Как бы это узнать обо всем, что она думает, яснее!" Но она лишь заставляет томиться напрасным ожиданием, а когда наконец заговорит с тобой - едва слышным голосом, - то и тот старается скрыть за своим дыханием! И на слова - скупа беспредельно. Таким способом женщины прекрасно умеют скрывать все свое...
А то смотришь: на вид такая нежная, робкая девушка и вдруг, поддавшись слишком чувству, совершает легкомысленный поступок... И то и другое, по-моему, является большим недостатком для женщин!
Самое главное для женщины - помогать мужу, быть ему поддержкой в жизни... Для этого она может и не быть особенно изощренной в истинно-прекрасном; может и не уметь по всякому поводу высказывать свою художественную чуткость, может и не преуспевать особенно в области изящного... Все это - так. Но... с другой стороны: представьте себе жену, занятую одними только прозаическими делами, некрасивую - вечно с заложенными за уши волосами: только и знающую что одни хозяйственные заботы... Уходит муж утром, возвращается вечером. Ему хочется поговорить с той, кто ему близок, кто может его выслушать и понять. Ему хочется рассказать о том, что делалось сегодня у него на службе и вообще на свете, что хорошего иль дурного у него произошло на глазах иль довелось ему услышать. Хочется поведать все такое, о чем не говорят с чужими. И что же? Смеялся ли он иль плакал... был ли гневен на кого-нибудь иль легло что-нибудь у него на сердце - он только подумает: "Ну, что ей об этом говорить? К чему?" - и, отвернувшись от жены, станет вспоминать один: то рассмеется, то вздохнет. А она - в недоумении: "Что с ним такое?" - и только обращает к нему свои взоры... Как это ужасно!
Иль так, например: имеешь жену, похожую на ребенка... нежную, послушную. Всячески исправляешь ее недостатки. Вполне положиться на нее не можешь, но думаешь: она изменится к лучшему. И вот: когда бываешь с ней, она представляется милой, и прощаешь ей все ее несовершенства; но стоит лишь куда-нибудь уехать и оставить ей какие-нибудь поручения... иль в твое отсутствие случится что-нибудь, - она одна справиться, оказывается, не в состоянии: ни с серьезным делом, ни даже с пустяками. Она сама никак не может додуматься до нужного... И так это бывает досадно! Так прискорбно! Этот недостаток в женщине - очень нехорош. А другая: в обычное время с мужем немножко врозь, не совсем ему по сердцу, но случится что-нибудь вдруг - тут и блеснет своею сообразительностью!" - так рассуждал Самма-но ками, от которого ничто не укрывалось, и горько вздохнул, не будучи в состоянии остановиться хоть на какой-нибудь женщине...
"Но хорошо! Оставим в стороне происхождение, не будем говорить и о наружности" - продолжал он. - Что особенно бывает неприятно у женщин, это - неровный характер! Когда этого нет - считаешь, что можно положиться на нее на всю жизнь как на надежную опору себе, быть совершенно спокойным. Когда у таких женщин к этому всему оказываются еще и какие-нибудь таланты и изящные наклонности - только радуешься всему этому и уже не стараешься отыскивать в ней какие-нибудь недостатки. Обладала бы она лишь легким и ровным характером, а вся эта поэтическая тонкость сама собою приложится.
А вот еще женщины: прекрасны собою, скромны... Даже в том случае, если есть за что ревновать, быть недовольной мужем, - они терпят, не показывают и вида; по внешности они как ни в чем не бывало. Но - на самом деле они все затаивают у себя в сердце, и когда терпение их, наконец, переполняется, пишут самые жестокие слова, горькие стихотворения... оставляют мужу что-нибудь - специально для упрекающего воспоминания о себе - и скрываются в отдаленные горы, на берега морей, где-нибудь там, на краю света. Когда я был еще маленьким, женщины у нас в доме постоянно читали повести в этом роде, и я, слушая их, всегда думал: "Ах, бедняжка! Какой геройский поступок!" - и даже проливал слезы. А теперь думаю, что наоборот: такой поступок чрезвычайно легкомысленен и ни к чему не ведет. Жить все время с мужем, который может быть, тебя глубоко любит, и, стоит появиться перед глазами чему-нибудь не по нутру, сейчас же, не испытав как следует его сердце, убегать из дому и скрываться; ставить этим в затруднительное положение и его; проводить так, вдали от мужа, долгие дни, предполагая, будто таким способом легче узнаешь его подлинное чувство, - как все это лишено хоть какого-нибудь смысла! А если такую особу еще кто-нибудь похвалит, скажет: "Вот, мол, решительная женщина!" - ее ретивость в этом направлении возрастает, и она кончает тем, что уходит в монастырь... Когда она решается на такой шаг, в тот момент намерения у ней, может быть, самые лучшие и чистые; у ней в голове, может быть, и мысли нет, что ей придется опять оглянуться на этот мир, но... являются навещать ее знакомые: "Ах, как грустно! И как это вы решились?"- говорят они... "Как это все печально!" - говорит и муж, все еще не забывающий ее, и, узнав, что она сделала, проливает горькие слезы. А прислужницы ее, ее прежние наперсницы, ей при этом напевают: "Вот видите, госпожа! Господин любит вас, горюет без вас, - а вы так необдуманно с собой поступили!" Слыша все это и ощупывая рукою свою обритую голову, она падает духом, теряет решимость и готова уж рыдать... Хочет сдержаться, а слезы капают сами... Временами становится совершенно невмоготу, ее охватывает сожаление в содеянном... И сам Будда должен, пожалуй, тут подумать: "Какое грешное сердце у ней!"
По моему мнению, вот такие женщины, что так колеблются из стороны в сторону, - блуждают по тропе, гораздо более опасной, чем даже те, что прямо погрязают в сквернах этого мира. То им приходит в голову мысль: "Если бы союз наш окончательно не порвался, если бы я хоть не постриглась бы в монахини, муж мог бы еще прийти ко мне и взять меня к себе снова... " То, вспомнив о случившемся, снова переживают прежнее чувство обиды и горечи... То - раскаяние, то - опять ревность! Нет! Плохо ли, хорошо ли - но все же куда лучше, сколь больше говорит о серьезности чувства - всегда оставаться друг подле друга! А если что и произойдет - посмотреть в таких случаях на поступок другого сквозь пальцы.
Опять-таки неразумно поступать и наоборот: чуть только муж увлечется на стороне, сейчас же ревновать его, высказывать ему свою ревность прямо, сердиться на него. Пусть он и увлекся на самом деле, - тут следует вспомнить о том, как сильна была его любовь при первом знакомстве с собою; следует больше ему доверять. А то такие сцены ревности могут лишь повести к тому, что порвется весь их союз.
Вообще говоря, - что бы ни случилось, женщина должна оставаться невозмутимой и недовольство свое высказывать лишь намеками, только давая понять ему, что ей все известно. Нужно ревность свою проявлять без злобы, осторожно... От этого прелесть женщины только выигрывает. К тому же сердце нас, мужчин, по большей части всецело в руках той, с кем мы живем. С другой стороны, конечно, быть решительно ко всему равнодушной, смотреть на все уж слишком сквозь пальцы - тоже нельзя: муж скажет, что она очень мила, - но ценить и уважать ее, конечно, не будет. И выйдет, что будет он носиться от одной к другой, подобно "непривязанной ладье по волнам", - а это вряд ли приятно! Не так ли друзья?" - закончил свою мысль Самма-но ками, и Тюдзё кивнул утвердительно головой.
"Я раньше думал: если у тебя появятся подозрения, что женщина, которую ты любишь, которая тебе мила и дорога, неверна тебе, конечно, - это будет важным событием, но следует не обращать на это внимания, и тогда добьешься того, что женщина сама исправится. Но теперь я думаю иначе... Хотя, разумеется, для женщины нет ничего более похвального, чем отнестись к ошибке мужчины спокойно", - заметил Тюдзё и подумал про себя: "Сестра моя как раз подходит под это требование".
Он имел в виду ее и - Гэндзи, но тот дремал и ни одним словом не вмешивался в разговор. "Вот противный!" - подумал Тюдзё. Самма-но ками же, сей профессор по части женских нравов, снова стал ораторствовать. Тюдзё - весь внимание - слушал его суждения, изредка вставляя свои замечания.
"Сравните сердце женщины с чем-нибудь другим! - продолжал Самма-но ками. - Например: резчик. по дереву выделывает различные вещицы, - выделывает, как это ему нравится. Но ведь все это - пустячки. Прихоть момента. Никакой определенной формы, никакого художественного закона в такой вещи нет. Про такие вещи можно сказать только одно: "Что ж? Можно и так ее сделать!.. " Конечно, среди них встречаются вещи и действительно красивые; они приспосабливают свою форму ко вкусам своего времени, оказываются поэтому модными и привлекают к себе человеческие взоры. Однако изготовить предмет украшения, красивый по-настоящему, по-серьезному; изготовить по определенной форме, безукоризненно в художественном смысле, - вот тут-то и проявится ясно искусная рука истинного мастера.
Или еще: у нас в Академии живописи - немало искусных художников. Все они не похожи друг на друга. Кто из них лучше, кто хуже - сразу и не подметишь. Однако один из них рисует гору Хорай, которую люди никогда не смогут увидеть; иль в этом же роде: огромную рыбу, плавающую по бурному морю, свирепого зверя, что живет будто в Китае; демона, который человеческому взору не виден. Те, кто рисует это все, следуют во всем своему собственному вкусу - и поражают этими картинами взоры людей. В действительности, может быть, оно и совсем не похоже, но... "Что ж? Можно и так нарисовать!.. "
Другое дело писать самые обычные горные виды, потоки вод, человеческие жилища, - все так хорошо знакомое человеческому глазу. Писать так, чтоб казалось: "Так оно и есть на самом деле". Рисовать пейзажи со стремнинами, но без круч, а вписывая осторожно мягкие и нежные контуры... Нагромождать друг на друга древесные чащи, горы, удаленные от населенных мест иль изображать внутренность сада, нам всем знакомого... Вот на это все есть свой закон, которого необходимо придерживаться, и искусство здесь будет сразу же видно. В этой работе много есть такого, до чего неискусный мастер никогда и не доберется.
Или возьмем каллиграфию: там точно так же случается, что люди, не очень сведущие в ней, начинают проводить вместо точек линии, делают росчерки и очень этим довольны. На вид оно получается как будто бы и ничего себе. Но суметь написать тщательно, по всем настоящим правилам, - тут внешней красивости как будто и не получается, но стоит только раз сравнить такое писание с первым - сразу же перейдешь на сторону истинного каллиграфического искусства.
Так обстоит дело в незначительных вещах. Тем более же так это все и в приложении к человеческому сердцу. Нельзя доверять такому сердцу, которое на момент как будто и становится привлекательным. Нельзя доверять такому чувству, которое представляется только глазу...
Может быть, оно и покажется вам, что я просто любитель приключений, но все же я расскажу вам про один случай со мною самим", - закончил свое рассуждение Самма-но ками, и все придвинулись ближе друг к другу. Гэндзи тоже проснулся. Тюдзё усиленно внимал Самма-но ками, поместившись против него и подперев щеку рукою. Все имели такой вид, будто слушают проповедь учителя закона: "Все в мире непостоянно... " Забавно! Они тут не скрыли друг от друга даже самых интимных вещей.
Самма-но ками начал так:
"В те времена, когда я был еще молод и в низких чинах, у меня была одна женщина, которую я любил. Она была в том роде, как я вам сейчас говорил, - не из очень утонченных и красивых. Как то и полагается юноше, мне и в голову не приходила мысль делать ее своею женой. Но даже и так, в качестве простой любовницы, она меня не удовлетворяла, и поэтому я с легким сердцем постоянно изменял ей. И вот она начала ревновать. Мне это не понравилось. "Чего тут ревновать? Лучше бы посмотреть на это снисходительно!" - думал я и очень был недоволен. Но, с другой стороны, мне было ее и жаль: подумаешь ведь, как она любит меня. И за что? Так бы все мое легкомыслие постепенно само собою и прекратилось...
Какова она была нравом? Нужно сказать, что она старалась изо всех сил делать все для меня - даже то, до чего я сам еще не додумался; беспокоясь о том, чтобы не показалось плохо со стороны, она прилагала свои усилия даже в тех областях, в которых была неискусна; всячески заботилась обо мне, стремилась во всем угодить мне...
"Немножко уж чересчур" - подумывал я, но она так льнула ко мне, так исполняла все мои желания. Всячески старалась приукрасить свою некрасивую наружность: "Как бы он, увидев меня, не отвернулся... " Всегда опасалась, что при встрече с другими мне будет стыдно за нее. Тщательно следила за своею внешностью. Постепенно я привыкал к ней и стал находить, что ничего дурного в ней нет, и только одно меня тяготило - ее ревность.
И вот мне пришла в голову мысль: "Если она меня так сильно любит, дай-ка я ее немножко поучу и тем излечу ее от этого недостатка. Надо мне будет сделать вид, что мне не по нутру ее ревность и что я собираюсь с ней порвать. Поскольку она так сильно ко мне привязана, она обязательно испугается и изменится", - рассуждал я. С этой целью я нарочно стал выказывать ей пренебрежение, и она, как полагается, вскипела гневом и стала меня попрекать. Тут я и начал. "Если ты будешь так злобствовать, - как бы ни был прочен и глубок наш союз, я порву с тобой и перестану тобою встречаться. Если ты стремишься к тому, чтобы сегодня же мы с тобою разошлись, можешь ревновать и попрекать меня сколько угодно, но если ты рассчитываешь и хочешь жить со мной дальше, тебе следует сносить все и не принимать к сердцу, какое бы неудовольствие я тебе ни причинял. Уймешь свою ревность - и я буду любить тебя. Подожди, дай мне стать постарше, продвинуться вперед в чинах, и ты будешь для меня тогда - единственной женщиной на свете".
Женщина слегка засмеялась: "Мириться с твоим низким теперешним званием, вообще - с твоим непривлекательным положением... мириться и ждать, когда ты выйдешь в люди, я готова с удовольствием и в тягость не сочту никогда. Но ждать долгие годы, чтоб ты исправился, перестал изменять мне - не в силах. Этого перенести я не могу, и поэтому лучше уж нам расстаться теперь", - злобно сказала она. Тут я вспылил и, слово за слово, наговорил ей столько всего, что она, вне себя от раздражения, схватила мою руку и укусила меня за палец. Я нарочно громко закричал, как будто от боли... "И так я - человек низкого звания, а тут еще такая ужасная рана... Калека... Теперь уж и в свет показаться нельзя! О карьере - нечего и думать! О! Все надежды рухнули. Ничего не остается теперь, как только бежать от этого мира! - кричал я и, бросив ей: - Теперь уж прощай навсегда!" - зажал раненый палец и устремился вон из ее дома. Уходя, я ей сказал:
"Если подсчитать
Все "суставы пальцев" мне -
Наши встречи здесь, -
Лишь один "сустав" болит...
Боль - от ревности одной...
Ни в чем другом упрекать тебя я не могу". А она мне в ответ:
"Если подсчитать
В сердце мне всю боль свою,
Боль твоих измен, -
Нет! Не палец твой больной
Нас к разлуке здесь привел".
Само собою, я вовсе не собирался порывать с ней на самом Деле, но все же после этого в течение некоторого времени и не писал ей ничего, и, как всегда, переходил от одной женщины к другой.
Наступил канун праздника в честь бога Камо. Во дворце про-исходила полагающаяся церемония, и я присутствовал на ней. День был очень холодный, и с наступлением вечера пошел легкий снежок. Все стали разъезжаться - кто куда. "Куда бы мне отправиться на ночь? - подумал я. - Остаться на ночлег во дворце одному - все равно что заночевать в пути: неуютно. Отправиться к какой-нибудь важной даме и быть в необходимости держать себя чинно и церемонно - в такой холодный вечер неприятно. Хорошо бы так, попросту, погреться где-нибудь. Видно, негде, как только у ней, - решил я. - Что-то теперь она думает", - подумал я, и мне захотелось ее повидать. Направился к ней. Шел снег. Я спешил, стряхивая снег со своих одежд. "Немножко неловко опять являться к ней, после того, как я так решительно порвал с ней... Да ничего. Сегодня вечером - опять все уладится", - раздумывал я. Добрался до дому, смотрю: у самой стены - придвинут мерцающий светильник... Мягкие теплые одежды развешаны на подставках и греются у огонька... У входа поднята занавеска... Все так, как будто бы она ждет: "Вот сегодня вечером... " "Ага", - подумал я самодовольно, но - ее самой дома не оказалось. Были только одни служанки. "Госпожа сегодня вечером отправилась в свой родительский дом", - ответили они мне...
"Не послав любовного стихотворения... не написав чувствительного письма, так взять и скрыться - это бессердечно". Я был очень озабочен.
"Уж не завелся ли у ней другой любовник? - подумал я. - Может быть, она в припадке ревности и злобы решила: "Пусть он поскорее забудет о своей любви ко мне, - расстанусь с ним и сойдусь с другим!" Ничего похожего на что-нибудь такое не было, но в своем раздражении я стал подозревать за ней все дурное. Однако, так иль иначе, в этот вечер здесь, у ней, - и кимоно мне было изготовлено заново, и вся окраска и вышивка на нем была сделана с большим тщанием. Видно было, что она следила за этим даже после нашей окончательной разлуки... что она заботилась обо мне и теперь. При виде всего этого я решил: "Нет! Она не собирается уходить от меня навсегда", - и после этого я стал посылать ей письма: "Не хочешь ли, чтоб все было по-старому?" Однако она - не то чтобы отказалась наотрез, но просто куда-то скрылась. Она ничего не делала такого, чтобы мне досадить; не писала мне ответов, чтобы меня устыдить. Она только сообщила: "Если ты все так же бессердечен, я не желаю прощать тебе и опять соединяться с тобою. Я вернусь к тебе лишь в том случае, если ты перестанешь изменять мне". Я тут успокоился и был уверен, что женщина ни в коем случае меня не бросит. Поэтому решил: "Надо ее поучить хорошенько". Не обещал ей: "Исправлюсь, мол, как ты того хочешь", - но стал вести себя по-прежнему, свободно. И вот она, скорбя о том, что я не изменяюсь и что она поэтому не может вернуться вновь ко мне, - заболела, бедняжка, и умерла. "Плохая шутка оказалась", - все время думал я после этого. "Вот как раз такую бы хорошо иметь своей женой", - вспоминаю я ее теперь постоянно. С ней можно говорить о чем угодно: и о пустяках, и о важном деле. Она была прямо сама богиня Тацута. Ничуть не хуже небесной феи Танабата - так хорошо умела она окрашивать ткани и шить", - с печалью и любовью вспоминал умершую Самма-но ками.

Повесть о блистательном принце Гэндзи. Глава 'Такэгава' (II). Первая половина XII в. Фрагмент.
Тюдзё заметил:
"Лучше, если б она уступала фее Танабата в искусстве шитья, зато была б похожа на нее в верности любовному союзу. Да! Эта твоя богиня Тацута редкая женщина. Как жалко ее! Возьми даже цветы иль красные кленовые листья... не то уж людей. И что же? Не вовремя зацветут они, -и плохо! -так и погибнут без всякого блеска... Поэтому-то я и говорю: "Да, трудная вещь - жизнь в этом мире!"
Самма-но ками заговорил снова:
"В ту же самую пору поддерживал я связь еще с одной женщиной. Эта была гораздо лучшего происхождения, чем первая; и воспитание у ней было самое прекрасное. Она сочиняла стихи, красиво и быстро писала, играла на кото. Во всем, где требовалось искусство руки иль меткость уст, она была очень искусна. И наружность ее была безупречна. Поэтому я, сделав ту - ревнивицу - своей постоянной любовницей, изредка тайком навещал и эту и с течением времени сильно ею увлекся. После смерти той я подумал: "Жалко, - но что делать? Хоть и жалко, но дело конченое, и ничего теперь не поделаешь" - и стал к ней хаживать чаще. Стал узнавать ее ближе, - и вот, кое-что стало казаться в ней неприятным. Мне не нравилось в ней это постоянное щегольство своим искусством и заигрывание с мужчинами. Я увидел, что полагаться на нее нельзя никак, - и стал показываться к ней реже. В это время мне показалось, что у ней завелся еще один тайный любовник. Как-то раз в десятом месяце, вечером, когда светила яркая луна, я выходил из дворца. Тут подходит ко мне один знакомый придворный и усаживается в мой экипаж. Я собирался ехать ночевать к одному своему знакомому, Дайнагону. Этот придворный мне и говорит: "Я очень беспокоюсь... Меня сегодня ждет одна женщина". Дорога наша лежала так, что нельзя было миновать ее жилище. Вот и видим мы чрез разрушенную ограду: пруд у ней там, и в нем отражается луна... Он никак не мог так проехать мимо и слез с экипажа. Я подумал: "По всей вероятности, их связь длится уже с давних пор". Придворный не спеша направился в сад и уселся на галерее - неподалеку от ворот. Уселся и некоторое время молча смотрел на луну. В саду цвели хризантемы, были разбросаны повсюду красные кленовые листья, сорванные осенним ветром - было очень красиво и поэтично. Вынимает он из-за пазухи флейту и начинает играть, изредка напевая сам:
"У колодца здесь
Я нашел себе приют.
Хорошо в тени!
Свежая водица тут...
Для коня хороший корм... "
И вот из дому послышалось, как кто-то настраивает кото, так красиво звучащее... настраивает и начинает ему вторить. Выходило это у них не так уж плохо. Женщина играла, нежно касаясь струн, - и звуки неслись из-за занавески у входа: это было очень поэтично. И очень гармонировало с блестящей яркой луной. Мужчина, привлеченный ее игрою подошел к самой занавеске и с упреком проговорил: "Как это случилось, что сегодня на этих листьях красного клена не видно ничьих следов от тайных к тебе посещений? - Затем, сорвав хризантему продекламировал:
Лютни звуки здесь...
Хризантемы... Как воспеть
Мне приют такой?
Что ж находишь ты во мне,
Жалком бедняке таком?
Ты, наверно, ошиблась, но все ж, прошу тебя: пусть и существует человек, который оценит твою игру лучше, чем я, - все-таки не играй только для него одного!"-так полушутя, полуупрекая говорил он ей, и женщина жеманным голосом ответила:
"Ветер веет здесь...
С ним в согласии звучат
Звуки флейты - там...
Где же мне их удержать?
Слов не знаю я таких".
Так обменялись они словами, а женщина, не подозревая, что я здесь и наблюдаю за ней, настроила инструмент на другой лад и заиграла модную изящную пьесу. Это верно: играла она очень искусно, но мне все-таки было неприятно. Да... Такие женщины хороши лишь тогда, когда с ними встречаешься изредка, когда видишь их, скажем, во дворце; тогда их бойкость и светское умение кажутся приятными. Но если хочешь найти себе настоящую верную подругу, - нет! "На такую положиться нельзя!" - решил я и, воспользовавшись этим случаем, прекратил с нею связь.
Вспоминаю я теперь эти две встречи с женщинами - и что же? Уж в молодом возрасте я узнал, что женщинам выдающимся в чем-нибудь - верить нельзя. А теперь - я в этом убедился как нельзя более. Вы, друзья, может быть, представляете себе, что вот такие и хороши, что блестящи, умеют флиртовать, податливы - что твоя росинка на ветке: но сломишь ее - и росинка скатилась... Что градинка на листике бамбука: взял ее в руки - а она растаяла. Нет, друзья! Поживите еще лет семь и сами придете к такому же убеждению. Я, хоть и не смею, - все же вас предупреждаю: не верьте женщинам, что легко поддаются всем вашим любовным желаниям. Они легко сбиваются с пути, - и из-за них вы сами заслужите плохую репутацию", - так увещевал друзей Самма-но ками.
Тюдзё в ответ по-прежнему только утвердительно кивал головой. Гэндзи же улыбнулся и по виду тоже был с ним согласен; однако вслух он заметил другое.
"Ну, твое рассуждение - никуда не годится", - так произнес он и рассмеялся.
Тюдзё прервал его словами:
"Расскажу и я вам про одну глупенькую женщину, - и начал свой рассказ:
Когда-то имел я тайную связь с одной женщиной. Это было довольно привлекательное существо. Конечно, я отнюдь не собирался поддерживать с ней связь до бесконечности, но - чем больше узнавал ее, тем больше к ней привязывался, и хоть изредка, но вспоминал про нее. В результате стало заметно, что она видит во мне свою единственную опору... Бывали минуты, когда я думал: "Если она в меня так верит, значит, ей должно быть очень неприятно, что я так редко у ней бываю". Однако женщина как будто совершенно не страдала от этого и, как бы редко я у ней ни бывал, ничуть не ревновала и не упрекала меня... Она неизменно подавляла свое недовольство. Мне стало ее жаль, и я готов был уже связать свою судьбу с ней и заключить с ней союз навсегда. Нужно сказать, что родителей у ней уже не было, и положение ее было поистине жалкое. Мне было приятно видеть, что она надеется на меня только одного. Ревности она никакой не высказывала, нрав у нее всегда был ровный, - вот я и перестал тревожиться. Однажды я не был у ней очень долгое время. И в этот промежуток она получила от моей жены угрожающее письмо. Я узнал об этом только впоследствии. Ничего не подозревая, я не слал ей даже письма, и так прошло много дней. И вот она пришла в отчаяние и горе: ведь у ней был ребенок от меня. Сорвала она цветок гвоздики и послала его мне…» - говорил Тюдзё со слезами в голосе.
«Что же было в письме при этом?» - спросил Гэндзи.
«Ничего особенного, -ответил Тюдзё. - всего только одно стихотворение…
«Пусть заброшен весь
Садик дровосека стал…
Все же сжалься ты!
Капельку любви-росы
На «гвоздичку» ты пролей»
Она писала мне, чтоб я пожалел хоть нашу девочку.
Получил я это стихотворение, вспомнил про нее и отправился к ней. Она была, как всегда - ровна и приветлива, но в душе, видно, страдала… Все время смотрела молча перед собой в запущенный сад, где всюду на траве лежала роса. Рыдающими звуками звенели цикады, и видно было, что и она плачет вместе с ними… Словом - было совсем как в старинных романах.
Тут я сложил такое стихотворение:
«Много здесь цветет
Всяких милых цветиков…
Выбрать - не могу:
Всё же слаще ложа нет,
Что «гвоздикою» покрыт»
Хотел утешить ее… сказал, что - не столько девочку, сколько ее я люблю. Она же мне в ответ:
«Рукавом стряхнув
С ложа пыль - я жду…
Влажен весь рукав, -
На гвоздике ведь роса…
Осень с бурей ведь пришла».
По-видимому, на сердце у ней было очень грустно, но она сказала это просто, без особенного смысла и старалась усиленно не показать и виду, что в сердце у нее ревность. Все-таки слез сдержать не могла… уронила себе на колени несколько капель, но сейчас же стыдливо их подавила. Она считала, что будет совсем нехорошо, если я замечу, что она чувствует мою неверность. Поэтому, я успокоился и опять в течение некоторого времени не навещал ее. И вот - на этот раз она куда-то уехала, скрылась бесследно… Если она и живет на белом свете, вероятно, находится в очень бедственном положении… Что ж… ведь если бы она в те времена, когда я ее любил, давала мне понять, как она привязана ко мне, хоть немного бы выказывала мне свою ревность, так бы не получилось. Я бы не стал так ужасно забрасывать ее на долгое время и хоть и не сделал бы ее своей женою, но все же создал бы ей определенное положение, и наша связь могла бы длиться долго.
Мне было жалко девочку, и я всячески старался ее разыскать, но до сих пор не мог узнать, где она и что с ней. Она как раз может служить примером тех простых, скромных женщин, о которых говорил Самма-но ками. Я не представлял себе, что она так страдает от моей неверности, но любовь моя к ней никогда не исчезала…
В настоящее время я ее понемножку забываю, но она, думаю, меня не забывает… сидит по вечерам одна у себя и терзается сердцем. Да! Таких женщин сохранить около себя трудно… Они так ненадежны. Да и те, о которых сейчас говорили, - ревнивицы… Вспомнишь о них - приятно, а попробуй опять столкнуться на деле - они будут в тягость. Эта третья, что искусно играет на кото… Ей нельзя извинить пристрастие к флирту. У такой женщины, о которой я сейчас рассказал, никак не поймешь, что у них сейчас на сердце… «Не ревнует, - значит, равнодушна, любовник есть», - невольно возникает подозрение. И выходит, что нельзя различить, какая же из трех лучше. Таков уж этот свет! В конце концов - у всех свои недостатки, и сравнивать их друг с другом нельзя!» - так закончил Тюдзё.
Тут все заговорили.
«Где же ты найдешь женщину, чтобы имела одни прекрасные качества и никаких недостатков? На земле - по-видимому, нет. Уж не попробовать ли нам влюбиться в каких-нибудь небесных фей? Только от них будет нести буддизмом, и вообще еще неизвестно, что они собой представляют. Лучше от них подальше!» И все засмеялись.
Тюдзё обратился в сторону То-но сикибу.
Слушай, Сикибу, вероятно, у тебя есть что-нибудь интересненькое… Расскажи нам!» - сказал он.
«У меня? Низкого из низких? Что же у меня может быть такого, что бы вам стоило слушать?» - смущенно проговорил тот. Но Тюдзё горячо настаивал: «Скорей! Рассказывай…» Тот немного подумал и начал:
«Когда я был молодым еще студентом, я познакомился с одной женщиной, которую можно было бы назвать образцом учености. Женщина эта, - как и говорил Самма-но ками, - могла вести разговор и об общественных делах и вообще прекрасно знала жизнь. Со своей ученостью могла заткнуть за пояс любого второсортного профессора. Когда она с кем-нибудь спорила, выходило так, что тот принужден бывал умолкнуть. Познакомился я с ней по следующему случаю: в те времена занимался я с одним из профессоров; ходил к нему на дом и узнал, что у него много дочерей; улучив удобный момент, я повел нежные речи с одной из них. И вот ее отец - мой профессор, словно тот самый "хозяин", проведав об этом, шлет мне чарку для вина со словами: "Выслушай о том, что буду петь тебе о двух путях". Я, - хотя и не предполагал так свободно ходить к ней, но видя, что отец сам желает меня для дочери, - я стал продолжать свою связь с ней. С течением времени она сильно привязалась ко мне и всячески опекала меня. Даже на ложе она вела со мною ученые разговоры: поучала меня, как, например, вести себя во дворце... Когда писала мне письма, писала одними китайскими иероглифами, без примеси японских букв. Владела кистью она прекрасно, и если я теперь умею кое-как написать по-китайски, то только благодаря ей... Это благодеяние я всегда буду помнить. Однако жениться на ней я не хотел. Слишком уж учена она была... Будет у нее муж неученый, вроде меня, сделает что-нибудь неподходящее - жена сейчас же заметит, и ему будет стыдно... Нет, слишком тягостно постоянно следить за собой... Таким же, как вы, друзья, такая жена не нужна. Вообще говоря - мужчины очень любят перебирать: "Эта не хороша, та - не годится", - а если женщина им нравится, то не замечают за ней никаких недостатков; сама судьба влечет их: завязывают связи, невзирая на то, есть недостатки у женщины или нет. Мужчине хорошо. Он не очень чувствует, что нет на свете совершенных женщин", - говорил Сикибу.
Тюдзё хотел слышать дальше: "Любопытная женщина", -и требовал продолжения.
Сикибу был очень доволен, что его вызывают на дальнейший рассказ, и продолжал.
"Одно время я долго у ней не был. Прихожу раз после этого, вижу - ее нет в ее обычном помещении; сидит она в другой комнате и отгородилась от меня ширмой. "Ну, - подумал я, - если она, несмотря на нашу связь, загораживается от меня, значит, она досадует, что я долго у ней не был". Однако, с одной стороны, порывать с ней, воспользовавшись этим предлогом, было бы неудобно; с другой - я знал, что она умна и не из тех, что сразу же ударяются в ревность. Тут она слабым голосом мне и говорит: "Я уж долго болею, простудилась... и наглоталась лекарства. Оно ужасно скверно пахнет, и мне поэтому неловко с вами встретиться. Если У вас есть дело, скажите так, через перегородку!" Это было очень внимательно с ее стороны спросить, нет ли у меня дела, - но что мне было ответить ей в данном случае? Я только и мог сказать: "Ах, вот как?" - поднялся со своего места и направился было обратно. Ей, по-видимому, это было неприятно, и она громким голосом закричала: "Пусть рассеется запах... Приходите потом!" Не обратить на эти слова внимания и уйти было нехорошо: доставить ей неприятность. Я топтался на месте, не зная, что делать, и вдруг чувствую: ужасная вонь! Я не выдержал и бросился к выходу.
"Ждала ты меня...
Вечером я должен быть.
Вот и вечер уж.
Слышу: "Пусть рассеется...
Что? Иль мрак? В тумане я... "
"Бросить ее, воспользовавшись этим случаем, было бы слишком жестоко", - подумал я и, оставив ей это слегка укоряющее стихотворение, вышел из ее помещения. По дороге меня догнала служанка и приносит ее ответное стихотворение:
"Была б связь у нас
Так сильна, что ночи все
Вместе бы текли, -
Вряд ли нам с тобой тогда
Что-нибудь мешало днем... "
Ученая! Как быстро может сложить стихотворение", - так рассказывал с серьезным видом Сикибу.
Все присутствующие подумали: "Что за неприятный рассказ! Может ли это быть? Неправда! - говорили они со смехом. - Где ты откопал такую особу? Лучше встретиться с ведьмой, чем с такою женщиной. Противно! Фи... - говорили они. - И что наговорил! - напали они на Сикибу. - Расскажи что-нибудь поизящнее!"- донимали они его. Сикибу растерялся: "Больше ничего интересного у меня нет", - и ушел из комнаты Гэндзи.
Самма-но ками опять начал говорить:
"Вообще говоря, и мужчины и женщины, - если они невоспитанны, - стремятся во что бы то ни стало показать другим все, что они знают. Такие люди вызывают только сожаление. Когда женщина знает наизусть все "три истории" и все "пять древних книг", - как она теряет в своей привлекательности! Вообще не может быть, чтобы женщина совершенно не понимала ничего, ни в общественных делах, ни в частных. Можно этому специально и не учиться, но если есть хоть какой-нибудь ум в голове, - так много можно усвоить просто из наблюдений и понаслышке. Когда же женщина преисполнена ученостью, умеет писать китайские иероглифы, да еще скорописью... Когда видишь письма ее, на большую половину загроможденные этими трудными иероглифами, - с сожалением думаешь: "Как бы хорошо, если б у этой женщины не было такого чванства!" Сама она, может быть, и не замечает, что пишет, но читающий, слыша одни только эти неприятные и резкие китайские звуки, обязательно подумает: "Это она - нарочно! Чтоб похвастаться!" Такие женщины встречаются часто и в высшем кругу.
Затем - писание стихов... Есть люди, что очень гордятся таким своим искусством, только и знают, что пишут стихи. Слагают их, помещая в начальную строфу какой-нибудь намек на событие... Слагают и посылают их другим без всякого разбору, когда попало. Это бывает очень неприятно. Не ответь - неловко. Вот они таким образом и ставят людей неискусных в затруднительное положение. Самое затруднительное бывает в праздники... Например, в пятый день пятой луны... Утром спешишь во дворец, готовишься, тебе не до того - и вдруг: цветок ириса и с ним стихотворение. Или в девятый день девятой луны: тут занят размышлениями: "Как-то удастся сегодня сложить китайскую поэму", - и вдруг цветок хризантемы, а с ним стихотворение с изложением своих чувств. Не ответить - нельзя. И отвечаешь, хотя голова занята совсем другим. И получается произведение поистине никуда не годное. Да не только в эти дни. И в другое время: пришлют тебе изящное стихотворение... Прочесть его потом на досуге - было бы очень интересно, а тут прислали, когда тебе некогда, и из-за этого не можешь хорошенько его прочувствовать. Такие люди, что совершенно этого не понимают, слагают стихи и посылают их другим, не считаясь со временем, - такие люди представляются мне скорее просто лишенными изящного вкуса. При всяких обстоятельствах бывают моменты, когда лучше не браться за стихи. И людям, которые в этом не разбираются, лучше перестать прикидываться, что у них есть вкус и понимание вещей. Вообще говоря, людям надлежит не подавать и виду, что они с тем-то очень хорошо знакомы... А хотят что-либо сказать, лучше не договорить, оставить недосказанным", -говорил Самма-но ками.
Гэндзи слушал все это и про себя думал о Фудзицубо: "У ней-то нет ничего недостающего, нет и ничего излишнего... Других таких женщин, как Фудзицубо, на свете нет!" - и всю грудь его стеснила печаль.
Разбор женских характеров так ни к чему и не привел. В конце концов стали говорить уже совершенно невероятные вещи... И в такой беседе провели всю ночь до самого рассвета...
Гэндзи увлекается замужнею женщиной: женою одного провинциального администратора - старика, женившегося вторым браком на очень молодой девушке. Смелыми действиями он овладевает ею, но Уцусэми (так обозначается она в следующей главе) преисполнена скорби: уступив один раз блистательному любовнику, она решительно восстает против связи с ним, у нее необычный для хэйанских дам характер. Гэндзи ропщет, пишет, требует, - но она ни звука в ответ. Тогда он решается на хитрость: взяв к себе на службу маленького братца Уцусэми - Когими по прозвищу, и приблизив его к себе, как поверенного, он пытается действовать через него. И вот, в конце второй главы, Гэндзи остается под удобным предлогом ночевать в доме, где живет Уцусэми; остается с тем, чтобы ночью тайком пробраться к ней, в надежде воздействовать на нее личным присутствием. Но каково его горе, возмущение, негодование, когда Уцусэми, предвидя это, заблаговременно перебирается спать к служанкам, в общую спальню. Гэндзи, вне себя, принужден был вернуться в отведенную ему комнату со своим верным поверенным - Когими...
III Уцусэми
Лежа в постели, Гэндзи говорил Когими:
"Я не привык к тому, чтобы меня так ненавидели. Сегодня вечером впервые я понял, как горька эта жизнь. Это - такой позор, что вряд ли я перенесу его". И отрок, лежа рядом, заливался слезами.
"Какой он милый!" - подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру, - на нее, с ее недлинными волосами.
"Какой он милый!" - подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру, - на нее, с ее недлинными волосами.
Идти, насильно вторгаться к ней было неудобно, и Гэндзи в горестных думах провел всю эту ночь. Он не вел, как обычно, ласковых речей с Когими, - и еще стояла глубокая ночь, как он ушел из этого дома.
А отрок остался один в грустных и печальных думах.
И у той также было не по себе на сердце. Никаких вестей от Гэндзи не получалось, и она решила: "Верно, он так теперь досадует на меня... "
А в мыслях мелькало:
"Как грустно, если все так и закончится! Не то это... Но, с другой стороны, если он не оставит таких, несущих одни неприятности, действий - создастся совершенно безвыходное положение. Нет! Уж лучше вовремя порвать это все". Так размышляла она, а взор у самой так задумчиво-рассеянно уходил куда-то вдаль.
А Гэндзи, зная хорошо, что не пристала ему эта любовь, все ж не мог расстаться с нею: все время на сердце у него была она, и, томясь так, что даже было неловко перед другими, он не раз говорил Когими:
"Мне так горько, так грустно! Стараюсь насильно отвратить от нее свои мысли, но сердце не слушается и мучается, страждет оно. Найди удобный случай! Постарайся хоть обманным образом устроить так, чтоб я мог встретиться с нею!"
И отроку так радостна была эта ласковая просьба Гэндзи! - хоть и знал он, как это трудно, хоть и касалось это все такого дела.
Своим детским сердцем следил он все время, не настанет ли как-нибудь этот удобный момент, и случилось, что муж этой женщины уехал в свою провинцию. В доме на свободе расположились одни только женщины.
"В сумраке вечернем - скрыт, утаён путь... "-говорится в стихотворении, и под покровом темноты Когими повез Гэндзи в своем собственном экипаже в дом сестры. "Ребенок он еще, - как бы не вышло чего-нибудь!" - размышлял Гэндзи, но, не будучи в силах совладать со своими думами о ней, торопил отрока, чтобы поспеть к дому до закрытия ворот, и старался только, чтобы его не заметили.
Когими поставил экипаж в незаметном месте и помог Гэндзи сойти. Ввиду того, что он еще был ребенок, привратник не обратил на него особого внимания и не вышел к нему. Все обошлось благополучно. Поставив Гэндзи у входа на галерею с восточной стороны, отрок стал громко звать и стучать в спущенные жалюзи с южной стороны и вошел внутрь дома.
"Почему это у вас спущены жалюзи, когда так жарко?" - спросил он, и служанка ему возразила:
"Ведь отсюда ж все видно внутри... - И прибавила: - У нас сегодня гостья - госпожа из западного флигеля. Они сейчас играют в шашки".
Гэндзи очень захотелось посмотреть на этих двух женщин друг возле друга, и, потихоньку пройдя в дом, он скрылся промеж спущенных занавесей.
Жалюзи, через которые прошел Когими, еще не были спущены, и сквозь открывшееся пространство он бросил взгляд в западную часть помещения.
Ширмы, стоявшие на том конце, также были с краю свернуты; занавески, могущие мешать взору, были подняты по случаю жаркой погоды, - и все было совершенно явственно видно.
Рядом с обеими женщинами горел светильник.
Та, что прислонилась к средней колонне этого центрального покоя в доме, - была она, что лежала на сердце у Гэндзи. Он прежде всего обратил свой взор на нее: на ней было надето легкое платье из лиловой кисейной материи, поверх которого было что-то накинуто; со своей изящной головкой и маленькая телом, она не бросалась в глаза своим видом и лицом своим, - при обращении к другим она старалась держать себя так, чтобы не привлекать на себя внимание; руки ее были тонкие и худые, - и она всячески старалась их прятать.
Вторая женщина сидела, обратившись к востоку, и была вся отчетливо видна.
На ней было прозрачное платье с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета накидкой; весь облик ее, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнурки юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с округлым, полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями лица и овала щек, с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые пышные волосы были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной во всем, без изъянов в чем бы то ни было.
Гэндзи с любопытством разглядывал ее. "Родитель прав, что считает ее единственной на свете!" - подумал он. Хотелось бы немножко спокойствия, мягкости, - но это вовсе не значило, что она была и так плоха.
Игра шла к концу, и когда она быстрым жестом бралась за шашки, ее движения были, казалось, немного резки и порывисты. Та же, другая, спокойно и мягко проговорила: "Постой! Это же не та фигура... "
"На этот раз я проиграла! Начнем считать! - И гостья стала считать, сгибая пальцы: - Десять! Двадцать! Тридцать! Сорок!" Положительно, это было немножко нехорошо в ней.
Глаза у старшей как будто немного припухли, формы носа не были правильно очерчены - словом, ничего выдающегося в ней не было; если бы разбирать все в подробности, она оказалась бы скорее даже просто некрасивой, но у нее были выдержка и манеры, - и облик ее, как проникнутый подлинным вкусом, останавливал на себе внимание даже более, чем той, которая превосходила ее красотою.
Впрочем, и у той - оживленной, очаровательной, красивой, свободно себя держащей, смеющейся - было много прелести; в своем роде и та была прекрасна.
"Что за взбалмошная особа!" - подумал Гэндзи, и его легкомысленное сердце, казалось, не хотело уже упустить из вида в ее...
Все те женщины, которых встречал до сих пор Гэндзи, церемонно держались, были чинно разряжены, отворачивали скромно при разговоре свое лицо. Он видел лишь одну внешнюю, показную сторону их. Ему не приходилось наблюдать их вот так, украдкою, когда они чувствовали себя совершенно свободно.
"Бедняжки! - подумал он. - Ничего не подозревают и дают так себя разглядывать".
И хотелось ему долго-долго стоять так и смотреть.
Но послышались шаги Когими, и Гэндзи тихонько выскользнул оттуда и стал на свое прежнее место у галереи.
"Это ужасно! Держать так господина... " - беспокоился отрок и, обратившись к Гэндзи, сказал:
"Сегодня, против обыкновения, у нас гостья. Мне не удалось и подойти близко к сестре!"
"Что же? Значит, и сегодня вечером ты хочешь, чтоб я так и ушел обратно? Разве это не жестоко?"
"Нет, нет! Что вы... уйдет к себе гостья, а я уж как-нибудь обойду сестру", - возразил тот.
"Однако вид у него таков, что, пожалуй он как-нибудь сломит ее сопротивление. Ребенок еще, а есть уже уменье проникать в суть вещей и понимать человеческое сердце", - подумал Гэндзи.
В этот момент внутри как будто закончилась игра в шашки. Послышалось движение, и как будто стали расходиться.
Одна из служанок крикнула: "Молодой господин! Где вы там? Я сейчас буду закрывать эти жалюзи". И Гэндзи, обратившись к отроку, молвил:
"Все улеглись. Иди и постарайся сестру обойти!"
Когими знал, что сердце сестры непреклонно и твердо, и, не зная, что ей и сказать, решил про себя просто ввести прямо к ней Гэндзи, улучив момент, когда вокруг никого не будет.
"Ведь здесь сестра Ки-но ками? Дай мне немножко взглянуть на нее!.. " - обратился к отроку Гэндзи.
"Как же это сделать? Ведь там за жалюзи еще спущены и занавески... " - возразил тот.
"Так-то оно так, - и все ж я только что... - засмеялся мысленно Гэндзи, но не сказал ему, что он все уже видел. - Жалко бедняжку!" - подумал он.
"Неприятно, однако, стоять и ждать так до ночи", - только заметил он вслух. - Постучав вновь, отрок вошел во внутренние помещения. Кругом было уже тихо, все улеглись. "Я лягу здесь, у входа. Ветерок! Ты обвевай меня!" - проговорил он и, постелив себе постель, лег. Вся женская прислуга расположилась на ночь в восточных покоях дома; туда же ушла спать и девочка, открывавшая Когими дверь.
Некоторое время отрок притворялся спящим; потом встал, расставил у светильника ширму и в темноте потихоньку ввел Гэндзи.
"Как бы не вышло чего-нибудь!" - подумал Гэндзи, и совесть его немножко колола.
Однако он последовал за Когими и, приподняв опущенные занавески, был готов проскользнуть уже в комнату женщины. Вокруг все мирно покоилось, и среди ночной тишины слышался только мягкий шелест одежд Гэндзи.
Женщина была даже рада тому, что Гэндзи, казалось, уже забыл про нее. Однако это дивное свидание, мелькнувшее, как сон, не могло отойти от ее сердца. Она не в силах была забыться и "в спокойном, безоблачном сне".
"День весь в мечтаньях, а ночью лежу вся в думах одних"; "не весна ведь, а не знаю ни минуты я забвенья... " - так вздыхала она.
Девушка, игравшая с ней в шашки, заявила: "Я здесь тоже с тобою!" - и бесцеремонно улеглась вместе с нею. Служанки спали крепко, ничем не волнуемые.
Аромат от надушенных одежд Гэндзи разнесся повсюду, и женщина приподняла от изголовья свою голову. Несмотря на окружающий мрак, сквозь отверстие занавесей, частично приподнятых из-за жары, была явственно видна приближающаяся фигура. "Какой ужас!" - подумала она и, не успев даже размыслить хорошенько, тихонько поднялась и в одной легкой ночной одежде выскользнула из постели и убежала из комнаты.
Гэндзи вошел и, видя, что на постели лежит только одна женщина, успокоился.
Невдалеке, внизу, спали две прислужницы. Сдвинув покров, он лег с нею рядом.
Ему сразу же бросилось в глаза, что она как будто бы несколько иная, чем при первом свидании, но он ничего еще не заметил. Однако ему показалось странным то, что она так крепко и безмятежно спит, - и в конце концов он открыл, что это не та.
Гэндзи почувствовал замешательство:
"Она сразу поймет, что я пришел не к ней, и выйдет ужасно! А та!.. Убежать так, когда я пришел только к ней, - это значит, что она лишена всякого чувства, считает меня за глупца!" - размышлял он.
"Это ведь та, что казалась такой красивой там, при огне светильника. Как быть с нею?" - подумал он вновь, и в этом сказалась испорченность его сердца.
Наконец открыла глаза и девушка, но от полной неожиданности совершенно оцепенела, и - не будучи в состоянии ничего сообразить, - не прибегла ни к чему... Для женщины, еще не знавшей света, она оказалась довольно искусной, - не робела и не смущалась.
"Сейчас она ничего не скажет про меня, - подумал Гэндзи, но потом, когда станет соображать, как это все могло произойти, несомненно, догадается, в чем дело. Для меня это ничего не значит, но для той - жестокой, так заботливо старавшейся скрыть все от света, это будет очень неприятно". И Гэндзи повел искусную речь о том, что он уже несколько раз приходил сюда под предлогом временного приюта на ночь.
Опытный человек понял бы все сразу, но - она была очень еще молода и, как ни была сообразительна, все же уразуметь истину не могла.
Она не была неприятной Гэндзи, но все же у него было такое чувство, что в ней нет ничего, что могло бы привлечь его сердце. И даже в это мгновенье он с досадой и горечью помышлял о сердце той - жестокой:
"Ведь где-нибудь прячется тут и смеется: вот, мол, глупое-то положение... Редко, где сыщется другая такая упрямица" - так размышлял Гэндзи, и образ той неотступно стоял перед ним.
Но все же и эта, с ее молодостью и доверчивостью, была мила ему, и он любовно повел с нею речь о дальнейших свиданиях:
"Не нужно, чтобы знали другие. Так лучше, втайне... "Прелести больше", - как говорили в старину. И ты полюби меня. Мне же приходится считаться со светом, и я не могу следовать одному лишь своему сердцу. Кроме того, если все разгласится, начнем волноваться, как бы тебе не запретили те, кто вправе, эти свиданья. Не забывай и поджидай меня вновь!" - говорил он обычные речи.
"Мне стыдно, что обо мне станут думать. Поэтому я вам писать не буду", - только и сказала девушка, выразив этим все, что у нее было в мыслях.
"Если все об этом будут знать, - правда нехорошо. Но мы можем пересылать друг другу через Когими. Ты же смотри не подавай и вида ни в чем!"- закончил Гэндзи и, захватив с собою легкую одежду, сброшенную той, вышел из комнаты и стал будить отрока, здесь же поблизости лежавшего. Тот спал беспокойно и поэтому сейчас же испуганно открыл глаза.
Когда он стал осторожно открывать наружную дверь, вдруг послышался голос старой служанки, громко спросившей: "Кто это там?"
"Это я!" - в досаде ответил отрок.
"Что это ты там ходишь по ночам?" - воскликнула та и, собираясь как бы проверить, вышла из комнаты.
"Ничего особенного! Вышел немножко сюда, - вот и все!" И с этими словами Когими вытолкнул Гэндзи на галерею.
Было уже близко к рассвету, и на небе выступила яркая луна. При ее свете фигура Гэндзи сразу же стала заметной.
"Там еще кто-то... Кто это? - спросила старушка. -А... это как будто ты - Минбу. Ну и рост же у тебя, право!" - добавила она.
Над этой Минбу всегда потешались за ее высокий рост.
Думая, что отрок вышел вместе с этой Минбу, старушка заметила:
"Скоро, скоро и ты сравняешься с нею", - и с этими словами вышла наружу.
Гэндзи был в замешательстве: ведь нельзя же было втолкнуть ее обратно, - и стоял, прижавшись к галерее, стараясь быть как можно более незаметным.
Старушка подошла к нему:
"Ты сегодня здесь, наверху, с господами? А я с третьего дня не знаю, куда деваться от болей в животе, - вот и сидела там, на кухне. Вчера перебралась сюда, наверх: сама госпожа позвала, - и народу здесь мало, говорит... Но все еще болит прямо нестерпимо! - горевала и жаловалась она и, не дождавшись даже ответа Гэндзи, успев бросить ему только: - Ой, ой! опять боли... Прости, пожалуйста!" - поспешно удалилась.
"Да, такие путешествия опасны!" - подумал Гэндзи.
С него было довольно. В сопровождении Когими он отправился к себе домой.
Рассказывая отроку обо всем случившемся, он выразил ему свое недовольство:
"Это ты - так по-детски недоглядел". Ломая пальцы свои, слал сердцу той укоры и упреки, и полный сочувствия к нему отрок не мог произнести ни слова.
"Она так ненавидит меня, что я сам себе стал противен! Но почему же она - пусть сторонится встречи со мной! - не пришлет мне хоть приветливый ответ? Значит, я хуже даже этого. Иэ-но сукэ?" - говорил он вне себя и, положив себе под одежду платье той, жестокой, захваченное с собою, улегся на постель. Уложив рядом с собою Когими, он то упрекал его, то снова говорил ему ласковые слова.
"Ты - милый мальчик, но выходит так, что я не смогу тебя долго любить", - говорил убежденно Гэндзи, и отрок не знал, куда деваться от горя.
Гэндзи полежал некоторое время, но уснуть был не в силах. Придвинув к себе тушечницу, он на листке бумаги - не то чтоб письмо, но так просто, как будто бы упражняясь, - написал:
"Одежду сменила
Цикада свою...
Под деревьями здесь -
"Эта скорлупка пустая
Так дорога мне!"
Так написал он, и отрок спрятал эти стихи себе за пазуху.
"Что-то делает теперь эта девушка... " - побеспокоился Гэндзи, но, хорошенько поразмыслив, не велел ничего ей передавать.
Легкое платье было все пропитано благоуханием дорогой женщины, и Гэндзи неустанно прижимал его к себе.
Когда Когими явился домой, сестра его поджидала и стала ему выговаривать:
"Это ужасно, что произошло! Я его кое-как обманула, но толков нам не избежать. Положение безысходное. И о тебе самом-то что подумает Гэндзи?" - стыдила его сестра.
Когими страдал и от одной стороны, и от другой, но все же вытащил записку, набросанную Гэндзи, и та все-таки взяла и прочла.
"Что он подумает теперь об этой пустой скорлупке - о моем платье? Верно, скажет, что оно так же загрязнено, как одежда ребенка с побережья Исэ", - и ужасно сердилась.
Та, младшая, также все время чувствовала себя в смущении. Никто ничего не знал, и она тайком от всех погружена была в рассеянную задумчивость.
При виде проходившего Когими у нее захватило в груди, - но вести от Гэндзи - не было.
"Значит, не любит!" - должна была бы подумать она, но по своей доверчивости только печалилась этому.
Та же - жестокая, хоть и успокоилась уже, все же, видя такую глубокую любовь Гэндзи, не могла вполне совладать с собою, хоть и не была она той, о которой поется:
"Если б той я была, что раньше... " "Если б смогла переменить себя самое я!"
На том же листке бумаги она написала:
"Та роса, что лежит
У цикады на крыльях,
Таится в ветвях...
И таятся те слезы,
Что увлажняют рукав".
IV Вечерний лик
Это было в ту пору, когда Гэндзи тайком навещал даму, жившую в районе шестого проспекта. Выехав из дворца, он задумал проведать свою прежнюю кормилицу, которая сильно занемогла и постриглась в монахини, и добрался до ее жилища на пятом проспекте.
Ворота, куда можно было ввести экипаж, оказались закрытыми, и Гэндзи, послав слугу позвать Корэмицу, сам стал разглядывать картину той неприглядной улицы, что была перед ним.
Рядом с домом кормилицы стоял чей-то новый деревянный забор, и поверх его видны были решетчатые жалюзи; они были на четыре-пять футов приподняты кверху, и сквозь них свежо белелись занавески. Оттуда выглядывало несколько миловидных женских лиц.
Женщины толпились там, силясь приподняться повыше, и Гэндзи - представившему себе их во весь рост - они показались ужасно высокими. "Кто это такие?" -подумал он, заинтересовавшись.
Своему экипажу он приказал придать самый простой вид, передовых скороходов с ним не было, так что Гэндзи, совершенно спокойный за то, что его никто не узнает, принялся разглядывать этот дом.
Створчатая решетка ворот была открыта, и взор беспрепятственно проникал внутрь: то было бедное жилище, - и Гэндзи почувствовал жалость. Ему вспомнились слова стихотворения: "На свете целом... " Но для путника, уставшего от скитаний, и это - терраса из яшмы!.. По сплетенной ограде, красиво ползли зеленые ветви вьющихся растений.
Белые цветы - в горделивом одиночестве - раскрывали свои смеющиеся глазки.
"У путника издалека... спрошу... " - промолвил тихо Гэндзи, и один из его слуг тут приблизился к нему и заметил:
"Эти белые цветы зовутся Югао ("Вечерний лик"). Имя у них - как у людей... На какой невзрачной ограде приходится им Цвести!"
И в самом деле: в этих неприглядных местах, где кругом стояли лишь одни маленькие домики, где всё - и то и это шаталось от ветхости, они вились по шатающемуся карнизу кровли.
"Бедные цветики! Сорви мне один!" - сказал Гэндзи слуге.
Тот вошел в ворота, что были открыты, и стал рвать цветы. В этот миг из входной двери, сделанной - между прочим - до-вольно изящно, вышла миловидная девочка в одежде из легкого желтого шелка и в длинной юбке. Она поманила рукою слугу.
Подавая ему белый, сильно надушенный веер, она проговорила:
"Подай цветок вот на этом! Цветочки так, без веток, будут наверное, некрасивы... "
Тут в воротах показался Корэмицу и сам подал цветы Гэндзи.
"Никак ключ не могли найти! Простите, пожалуйста. Хоть тут и некому узнавать вас, но все же неудобно стоять так на улице и ждать!.. " - извинялся он.
Гэндзи ввел экипаж и сошел на землю. У больной собрались: монах - старший брат Корэмицу, зять старушки - правитель провинции Микава, ее дочь; и все они были очень рады посещению Гэндзи и были превыше всякой меры ему благодарны. Монахиня, кормилица Гэндзи, приподнявшись на ложе, обратилась к нему:
"Мне жизни не жаль, но с одним расставаться тяжело: с возможностью вот так видеть вас и служить вам. Это все должно измениться! - думала я с горечью и все время боролась со смертью. Но вот - потому ли, что приняла я священные обеты - только жизнь вновь вернулась ко мне. Теперь, когда вы, вот так, побывали у меня, когда я вас повидала, теперь я готова с чистым сердцем предстать пред божественным светом Амида", - сказала она и, ослабевшая от болезни, заплакала.
"Я сам очень горевал, что тебе в последнее время так сильно недужится. Теперь же ты еще приняла постриг, и это совсем уже грустно... Живи подольше, дождись того, как я достигну высоких чинов! В горних обителях рая ты, конечно, возродишься благополучно, но я слышал, что если люди здесь, на земле, оставляют хоть в чем-нибудь чувство неудовлетворенности, это причинит им страдания там", - говорил Гэндзи со слезами.
Даже урод и тот в глазах кормилицы своей представлялся бы безгранично привлекательным, - а тут был сам Гэндзи, которого она выходила и которому служила! Он был так дорог ей, она с такой признательностью о нем помышляла, что все время, сама того не замечая, проливала слезы.
Корэмицу с братом были очень недовольны: "Если ей так трудно расставаться с этим миром, от которого она сама же отрекалась, то чего же еще расстраивать господина?" - толковали они между собой, подсев друг к другу и бросая на нее косые взгляды.
Гэндзи был очень расстроен:
"Еще в раннем детстве я был покинут один на этом свете дорогими мне людьми; много народу заботилось обо мне, но к тебе я привязался сильнее, чем ко всем другим. После, когда я стал взрослым, я был связан своим положением и не мог поэтому более видеть тебя по утрам и вечерам; не мог и навещать тебя, когда того хотелось. Однако, долго не видя тебя, я всегда скорбел в своем сердце: "Если б на свете неизбежной разлуки не стало!" Так Обстоятельно беседовал он с нею, и благоухание от его рукавов, которыми он отирал свои слезы, наполнило ароматом все уголки помещения. И даже дети старой монахини, до этого времени ворчавшие на нее, и те смягчились: "Поистине, - подумали они, завидная судьба у нее - быть кормилицей такого господина!"
Отдав приказание возносить в дальнейшем моления о здравии больной, Гэндзи отбыл из дома кормилицы, и при выходе, распорядившись Корэмицу о факеле, стал рассматривать полученный с цветами веер. Видно было, что этот веер был в постоянном употреблении и весь пропитался приятными духами дамы. Тут же оказалась и красивая надпись:
"Сердце - в догадках:
"То - он ли?" - взирает...
Взирает Югао,
Цветок, что сияет
Светлой росой".
Написано было небрежно и спутанными знаками, но так как здесь чувствовался изящный вкус, то Гэндзи, против ожидания, это стихотворение понравилось.
"Кто живет здесь по соседству? Ты знаешь?" - спросил он у Корэмицу.
"Ну! Господин мой опять за свое!" -подумал тот, но сказать это прямо не решился.
"Хоть и живу я здесь вот уже пять или шесть дней, но все время был занят ухаживанием за больной и поэтому о соседнем Доме не имел никакого понятия", - дал он неутешительный ответ.
"Ты, кажется, предполагаешь, что здесь затронуто мое любовное любопытство... Но дело в том, что мне хотелось бы кое о чем спросить в связи с этим веером. Поищи кого-нибудь, кто знает эти места, и узнай!" - повелел ему Гэндзи.
Корэмицу вошел в ворота и, кликнув привратника, стал его расспрашивать:
"Это дом одного господина, который носит звание "правителя провинции". Сам хозяин в настоящее время в отъезде, а его супруга здесь. Это молодая, красивая собою дама. Сейчас у нее сестра, которая служит при дворе", - ответил тот. Корэмицу, передав все это Гэндзи, добавил:
"А подробностей он, кажется, и сам не знает".
Гэндзи подумал: "Если так, то стихотворение послала мне та, что служит при дворе, - зная меня по дворцу". Однако, хоть и решил, что она не может быть достойна внимания, но все же содержание стихотворения и обращение к себе ему очень понравились. Гэндзи был всегда слаб в этом отношении. Поэтому он вытащил из кармана бумагу и измененным почерком - чтоб не узнали - написал:
"Ближе подойди -
Может быть, узнаешь...
Те цветы Югао,
Что в сумерках теперь
Неясно так блистают", -
и отослал с тем же слугою.
Слуга направился к дому Югао: "Хоть они, по-видимому, и не видели господина, но, вероятно, прекрасно сообразили, что это - именно он. И вот, не желая так упускать его, они и решили его затронуть. Но так как время шло, а ответа не было, они, надо полагать, чувствовали себя обескураженными. Теперь - вот он, этот нарочно для них написанный ответ. Тут они растают и подымут переполох: "Что он там написал, что написал... " - размышлял он с неудовольствием.
При тусклом свете передовых факелов Гэндзи потихоньку выехал из дома кормилицы. Жалюзи в доме рядом были уже опущены. Свет, проникавший сквозь щели, был "еще неявственнее, чем светлячки", и вызвал грустное чувство.
Жилище той, куда ехал Гэндзи, было совсем в другом роде: деревья, палисадник перед домом - все было иначе, чем было у обыкновенных людей. Дама эта жила приятно и даже чрезмерно роскошно. Чинный вид самой дамы, ее наружность были настолько иными, что Гэндзи было не до воспоминаний о неказистом дощатом заборе Югао.
На следующее утро он немного заспался и вышел из опочивальни, когда солнце уже ярко светило. Его "утренний облик" был настолько очарователен, что становилось понятным, почему все им так восхищались.
На обратном пути сегодня он опять проехал мимо тех жалюзи. И раньше он не раз проезжал здесь, но теперь в его сердце запало это коротенькое стихотворение, и каждый раз, проезжая, обращал на это жилище свой взор с мыслью: "Кто бы мог жить здесь, в этом доме?"
Корэмицу явился через несколько дней.
"Больная была очень слаба, и пришлось ходить и смотреть за нею, - сказал он и, подойдя к Гэндзи поближе, стал расска-зывать: - После того как вы приказали мне насчет того дома, я отыскал человека, который знает все по соседству, и стал его расспрашивать. Однако и он не мог сказать ничего определенного. Он сообщил мне только, что около пятой луны этого года там появилась под большой тайной какая-то женщина. Но и домашним не было объявлено, кто она такая. Я время от времени подглядывал сквозь щели забора и разглядел там фигуры молодых женщин.
Среди них есть одна - по-видимому, благородная, и носит она простое платье только для вида. Вчера лучи заходящего солнца озарили все уголки у них, и я очень хорошо рассмотрел: она писала письмо; лицо ее оказалось очень красивым, но она как будто была погружена в какие-то печальные думы; и некоторые из женщин там тоже как будто плакали", - говорил Корэмицу.
Гэндзи улыбнулся: "Надо бы с нею познакомиться!" - подумал он.
"Господин мой занимает высокое положение в свете, но если принять во внимание его возраст и то, как все им восхищаются, - пожалуй, не увлекайся он так, ему было бы грустно и скучно.
Ведь даже и те, кто не пользуется таким вниманием к себе со стороны света, - и они в известных случаях отдаются любви", - размышлял Корэмицу и продолжал далее:
"Мне хотелось как-нибудь познакомиться с нею. Поэтому, выдумав какой-то незначительный предлог, я послал ей письмо. Ответ пришел очень быстро - и написанный очень умелой рукою. Безусловно, это достойная внимания молодая дама!" - заключил он.
"Узнай ее поближе! Жалко будет, если ты не узнаешь о ней всех подробностей", - проговорил Гэндзи и подивился в душе:
"В самом низу общества, в жилищах, к которым все относятся с пренебрежением, все же случается иногда подметить, совершенно неожиданно для себя, нечто достойное внимания", - вспомнились ему слова приятеля.
Подглядывания Корэмицу, что поручил ему Гэндзи, закончились тем, что он разузнал много подробностей.
"Кто такая она сама, - я так и не мог догадаться. Заметно, Я-то она старательно таится. Случается, что молодые женщины в доме выходят, когда им становится скучно, в наружный коридор на южную сторону дома, где есть подъемные жалюзи, и, когда на улице послышится шум экипажа, - начинают выглядывать наружу. Бывает при этом, что и она - как будто их госпожа - тоже тихонько к ним выходит. Я не успел ее рассмотреть хорошенько но, кажется, она очень недурна. Как-то раз по улице проезжала "передовые", и маленькая прислужница, выглянув наружу, поспешно закричала: "Госпожа Укон! Смотрите скорее! Сейчас проедет господин Тюдзё". На ее крик вышла довольно красивая служанка: "Чего ты кричишь? - сказала она и, замахав руками остановила девочку. - Из чего ты это видишь? Дай-ка я посмотрю", - добавила она и украдкой вышла наружу. Чтобы выйти в коридор, нужно было по дороге пройти через что-то вроде мостика. Сбежавшиеся на крик женщины цеплялись подолами то за одно, то за другое и падали, а некоторые даже сваливались с мостика вниз. - "Ах, проклятый мост!" - ворчали они, и любопытство их остывало. Господин Тюдзё в этот день был одет в свое придворное платье, с ним были слуги. Девочка перечисляла их: "Это - такой-то, а это - такой-то... " - что и служит доказательством того, что люди господина Тюдзё эту девочку знают", - рассказывал Корэмицу.
"Итак, это - Тюдзё!" - произнес Гэндзи. "Да, это - та, которую желаешь и не можешь забыть", - понял он, и ему сильно захотелось с ней познакомиться.
Корэмицу, наблюдая за ним, произнес:
"У меня также есть там зазноба, и, воспользовавшись этим, я и узнал все подробности. Дело в том, что в доме этом живет одна молодая женщина, которая старается внушить другим, что она - такая же, как и все прочие там. Я бывал у них, зная, что меня водят за нос, - и они до сих нор пребывают в уверенности, что прекрасно все скрыли. Но есть там одна маленькая девочка, - и она иногда проговаривается. Тут начинают все заговаривать зубы и усиленно делают вид, будто никого особенного среди них нет", - со смехом повествовал Корэмицу.
"Пусть это будет и временным жилищем для нее, но все же, - если принять в расчет, каково это жилье, в котором она обитает, выходит как будто, что она из тех самых низших кругов, о которых так пренебрежительно отзывался Самма-но ками. Но ведь и в их среде иногда - против всякого ожидания - обнаруживаются прелестные женщины... " - размышлял Гэндзи.
Корэмицу старался даже в мелочах угождать Гэндзи, да к тому же и сам был достаточно падок на любовные приключения. Поэтому он продолжал ходить туда, стараясь все время как-нибудь обмануть их, -и в конце концов устроил так, что провел туда Гэндзи. Рассказывать об этом скучно, и я, как всегда, это все пропускаю.
Гэндзи не стал расспрашивать женщину, кто она такая; потому не назвал ей и себя. Он придал себе самый простой вид; против своего обыкновения, слезал с экипажа и готов был идти пешком, так что взиравший на него Корэмицу подумал: "Ну и влюблен же мой господин!"
Лошадь свою он предоставил Гэндзи, а сам поспешал с ним рядом.
"Обычно любовник должен быть ведь недоволен, если его дама увидит его в неприглядном обличье", - становился он в тупик от действий Гэндзи. Тот же, не желая, чтоб его узнавали, брал с собой теперь только слугу и отрока, лица которого никто не знал. Он не заходил даже к Корэмицу по соседству. "Вдруг догадаются!"- думал он.
Женщина, со своей стороны, дивилась и не могла взять все это в толк. Она то посылала проследить за посланцем от Гэндзи, то направляла подсмотреть, куда уходит Гэндзи от нее на заре, разузнать, где он живет. Но Гэндзи удавалось так или иначе скрывать свои следы.
Гэндзи нарочно приказал изготовить себе простой охотничий костюм для того, чтоб надевать его, когда шел к ней; изменял весь свой облик, лицо же скрывал под маской; приходил и уходил - ночью, когда все спали, так что было похоже, будто он - призрак, о котором повествуют древние времена. Женщине становилось прямо жутко, но так как было ясно, хотя бы на ощупь, что это человек, то она только гадала: "Кто бы это мог быть?" Был заподозрен Корэмицу: "Это все проделки этого любителя любовных похождений!" Но тот делал самое невинное лицо, не поддавался и шутил, как всегда, так что она никак не могла понять: "Что здесь такое?" И Югао дивилась, думая: "Как это все необыкновенно!"
Со своей стороны, тревожился и Гэндзи:
"Что, если Югао в один прекрасный день возьмет да и уедет оттуда? Где мне тогда ее искать? Там все имеет вид ее временного жилья, - но сказать заранее, когда ей захочется куда-нибудь оттуда переехать - никак нельзя", - раздумывал он.
"Послушай! - заговорил он раз с Югао. - Поселимся где-нибудь на свободе - в каком-нибудь удобном месте!"
Однако та по-детски наивно возразила:
"Вы говорите такие странные речи. Я боюсь уже того, что вы и сейчас ведете себя так необыкновенно!"
"Это верно! - усмехнулся Гэндзи. - Да! Кто-нибудь из нас - оборотень! Выходит, кто-то один из нас обманывает другого... "- говорил он ласково и нежно, и Югао, поддавшись ему, готова была поступить так, как он хотел. Стояла восьмая луна, - было пятнадцатое число. Лучи полного месяца проникали в многочисленные щели деревянной постройки, Гэндзи не был привычен к такому жилью, и ему представлялось все это таким странным. Скоро должен был наступить и рассвет. В соседнем домике послышался голос какого-то простолюдина, который, проснувшись, говорил жене:
"Какой холод! Да... Плохи дела в этом году! Придется, видно, отправиться в деревню и промышлять чем-нибудь там. Слышишь, жена?"
Эти жалкие люди вставали каждый для своих дневных занятий; суетились, шумели, - а такая среда так не шла к Гэндзи, что, будь на месте Югао другая женщина, благородная и гордая, - ей оставалось бы только постараться исчезнуть куда-нибудь от стыда за окружающую ее обстановку. Но Югао была простодушна и не чувствовала никакого смущения или огорчения.
Под самым их изголовьем раздались звуки от рисовых ступ, грохотавших громче самого грома. "Что это такое стучит?" - подумал Гэндзи. Он не знал, что такой стук издает рисовая ступа, - и только внимал этим необычайным для него звукам. Многое было здесь для него совершенно невыносимо!
То там, то здесь начали раздаваться удары по плоским камням, на которых отбивали домотканую материю. В небе кричали стаи диких гусей. Как много здесь было всяких неудобств для него!
Покой их был расположен у самой наружной веранды. Открыв туда дверь, Гэндзи стал вместе с Югао оглядывать окружающее. В маленьком садике пред домом рос китайский бамбук, роса на кустиках блестела здесь так же, как и в том месте... Насекомые заливались на разные голоса.
Гэндзи до сих пор даже чириканье сверчка в стене приходилось слышать только издали, а теперь все это раздавалось прямо в ушах. Однако это все показалось ему только в диковинку: видно, чувство его к Югао было так сильно, что все грехи отпускались!
Не блиставшая внешней красотою фигура Югао - с ее белым платьем, с накинутой поверх него одеждой из светло-лиловой материи - казалась ему прелестной и хрупкой. В ней не было ничего, что можно было бы отметить как что-то особенное, но - миниатюрная и нежная, с ее милой манерой говорить - она вызывала в нем одно чувство: "Бедняжка! Какая она милая!"
"Если бы в ней было больше жизни!" - подумал Гэндзи. Ему захотелось видеть ее более открытой и свободно себя чувствующей.
"Слушай! Проведем остаток ночи где-нибудь в другом месте, здесь поблизости. А то тут только один шум. Так надоел он!" - обратился он к ней.
"Что это вы? Так внезапно... " - возразила она" с рассудительным видом.
Гэндзи стал убеждать ее, что союз их простирается не только на это земное существование: ее откровенность начала казаться ему чем-то совершенно отличным от того, что бывает у других; она стала представляться ему совсем не привыкшей к обычным мирским делам. Поэтому, не страшась уже более того, что могут сказать о нем в свете, он вызвал Укон, приказал позвать к себе выездного слугу и подать себе экипаж. Женщины, жившие с Югао, немного растерялись, но, видя, как сильно чувство Гэндзи к ней, - положились на Гэндзи и успокоились за свою госпожу.
Близилось уже утро. Пения петухов слышно не было, а только звучали где-то вблизи старческие голоса, как будто кто-то свершал поклонение: то были, верно, пилигримы. Кто стоял на ногах, кто на коленях, - они важно были заняты своим делом.
Гэндзи сочувственно стал прислушиваться к ним:
"Чего хотят они в этом непорочном, как роса поутру, мире? О чем они молятся так?" - подумал он. Оказалось, что они взывали к будде Мироку.
"Прислушайся к ним! - обратился он к Югао. - Они помышляют не только об одном этом мире!" - тоном сочувствия произнес он.
"Идя по пути,
Что свершают они,
Пилигримы святые, -
Не сомневайся: союз
Будет прочным и впредь!.. "
Древний пример клятвы во дворце Долгой жизни был для Гэндзи неприемлем; поэтому он вместо того, чтобы говорить о "двух птицах", упомянул о "грядущем будды Мироку". Говорить о жизни в мире ином было бы тут неуместно:
"По горю тому,
Что терплю в настоящем
За прежнюю жизнь, -
В грядущем мне также
Надеяться не на что, знаю!"
Судя по этим стихам, можно было думать, что все-таки душа у Югао была неспокойна!
При свете заходящей предутренней луны женщина призадумалась: так нежданно все это произошло и так волновало своей неизвестностью. Призадумалась она и заколебалась. Пока Гэндзи убеждал ее, луна вдруг скрылась за облаками, и стал очень красив этот вид светлеющего неба. Гэндзи торопил ее, - пока еще не стало совсем неудобно: у всех на глазах, - и легко подсадил ее в экипаж. Вместе с Югао села и Укон.
Когда они добрались до одного уединенного домика, здесь же, поблизости, Гэндзи, - пока вызывали смотрителя, - оглядывал это жилище: в полуразрушенных воротах разрослась густая трава, под деревьями стояла совершенная темень. Туман был так густ и роса так обильна, что когда Гэндзи стал поднимать занавески у экипажа, то сильно намочил свои рукава.
"Никогда я не бывал еще в таких делах! Да... нелегко все это... " - подумал он.
"В древности, когда-нибудь
Случалось, чтоб блуждали
Люди так, как я?
Ответь же, о неведомый,
Мой предрассветный путь!"
"А тебе все это - не внове, вероятно?" - обратился он к| Югао.
Та смущенно-стыдливо ему возразила:
"Гребни гор
Не знают...
А луны заходящей
На небе высоком
Уж нет и следа!"
"Мне отчего-то очень грустно!" - сказала она, и как будто чего-то боялась, чего-то страшилась.
Гэндзи со смехом подумал: "Это оттого, что она привыкла к людным местам!"
Приказав ввести колесницу, он стоял и ждал, - прислонив экипаж к балюстраде, - пока приготовляли им покои в западной части дома, Укон с восхищением смотрела на него, и ей припомнилось прошлое. Видя, как хлопочет смотритель, старательно устраивая все, она догадалась, кто таков возлюбленный ее госпожи.
Хоть и делали все на скорую руку, но все же убрали все очень красиво.
Слуг у Гэндзи - в надлежащем количестве - не было, и смотритель подумал: "Как это неудобно!"
Этот смотритель был известен Гэндзи уже давно, так как ему приходилось бывать в доме его тестя-министра. Поэтому, приблизившись к Гэндзи, он предложил:
"Не позвать ли кого-нибудь для услуг?"
Но Гэндзи сразу же заставил его сомкнуть уста:
"Я нарочно искал такой дом, где б никого не было. Смотри, не проболтайся никому!"
Смотритель подал изготовленную наспех закуску, - но прислуживать за трапезой было некому.
И отошел Гэндзи ко сну - в непривычной для него обстановке.
Вышло, что завязал он союз совсем в духе стихотворения о "Бесконечной реке"...
Солнце стояло уже высоко на небе, когда Гэндзи поднялся с ложа. Собственными руками он поднял шторы. Вокруг было все страшно запущено и дико, никого из людей не было видно. Взор свободно охватывал далекое пространство, и купы дерев там имели вид весьма древний и мрачный. Ничего не было заметно особенного и среди растительности тут, вблизи. Все - "сплошное осеннее поле", как говорится в стихотворении. Пруд тоже был занесен весь листвою и имел очень унылый вид.
В отдельной пристройке были устроены жилые помещения, и там, по-видимому, кто-то жил. Однако их покой был далеко оттуда.
"Какое унылое место! - произнес Гэндзи. - Надеюсь, что хоть демоны-то оставят нас здесь в покое... "
Лицо Гэндзи все еще было сокрыто под маской, но теперь он подумал: "И женщине это должно быть неприятно, и - на самом деле: не стоит ставить здесь такую преграду между ею и собой". Поэтому он обратился к ней и сказал, развязывая тесемки маски:
"С вечерней росой
Связки свои распускают
Лепесточки цветка!
Ради тебя, о союз, что завязан
Случайно на длинном пути... "
"То - блестки росы... Ну, что ты скажешь на это?"
Югао в ответ на это, бросив взгляд на него, тихо проговорила:
"Блистаньем как будто
Тебе показалась
На "ликах вечерних" роса...
То - глаз твой ошибся
В тенях предвечерних!"
"Какой прелестный ответ!" - подумал Гэндзи. Весь вид его, чувствующего себя так свободно, открытого для нее сполна, поистине не имел ничего равного себе на свете и так не шел к этому дикому месту.
"Я все время пенял на тебя за то, что ты так таишься от меня, - и решил даже, что не откроюсь тебе! Но, вот видишь?.. Теперь и ты открой мне, кто - ты? А то - так неприятна эта таинственность", - проговорил он, обратившись к Югао.
"Дитя рыбака - я... " - ответила та, но все-таки - при всей сдержанности и холодности - стала несколько ласковее.
"Что ж... хорошо! Видно "из-за себя" все, как говорится в стихотворении", - молвил Гэндзи.
И так-то укоряя друг друга, то в мирной беседе - провели они день.
Пришел Корэмицу и принес им фрукты. Укон наговорила ему всего, и так как все окружающее показалось ему скучным, то к самому Гэндзи он не прошел. "Забавно смотреть, как мой господин так переходит от одной к другой!.. Впрочем, тут можно было догадаться, что женщина окажется такою. Я и сам мог бы с нею прекрасно познакомиться, - но вот уступил ему... Я - человек великодушный!" - хвастливо раздумывал Корэмицу.
Вокруг царила полнейшая тишина. Женщина задумчиво смотрела на вечернее небо, и так как мрак комнаты внушал ей страх, то она перенесла циновку к самому наружному краю веранды и здесь прилегла.
Так смотрели они друг на друга, при лучах вечерней зари, - и даже Югао, чувствовавшая все время неожиданность и странность своего положения, все же забыла о всех своих горестях и стала немного откровеннее и свободнее.
Вид ее - такой - был еще прелестнее, чем обыкновенно. Она тесно прильнула к Гэндзи и так оставалась все время, пугливо вздрагивая. И казалась она ему ребенком, и так жаль было ее ему.
Гэндзи опустил шторы и приказал подать светильник.
"Я так открылся тебе во всем, а ты все еще что-то таишь в своем сердце. Как это горько!" - упрекал он ее.
"Как меня теперь, наверное, разыскивают во дворце! Где меня только не ищут теперь! - раздумывал он, и - странности сердца! - пришло на ум ему, с чувством некоторого раскаяния, и то, как волнуются теперь на шестом проспекте, как шлют там ему укоризны. - Разумеется, это - неприятно. Но - по заслугам!"
Однако, всем сердцем своим обращенная к нему, Югао внушала ему только любовь и жалость, так что он мысленно сравнивал ее с тою: "Слишком пылка та нравом!.. Хорошо, если бы она бросила кое-какие повадки свои, что так удручают того, кто ее любит".
Прошли первые часы ночи. Гэндзи слегка задремал. Как вдруг он видит, будто у изголовья стоит фигура какой-то странной женщины и говорит ему:
"Ты не хочешь идти к той, кто тебя любит, а приводишь с собой какую-то женщину, ласкаешь ее... Это ужасно и невыносимо!" С этими словами она как будто порывалась схватить ту, что лежала с ним рядом. Гэндзи подумал, что на них кто-то напал, - и в испуге проснулся: огонь в светильнике уже погас.
"Что бы это могло быть?" - подумал он и, обнажив свой меч и положив его рядом с собою, окликнул Укон. Укон, тоже вся перепуганная, подошла.
"Пойди разбуди людей, что спят там, в галерее, и скажи, чтоб принесли светильник!" - сказал он ей.
"Как же я пойду?- воскликнула Укон. - Ведь там темно!"
"Ты - как ребенок!" - улыбнулся Гэндзи и захлопал в ладоши.
Раздалось в ответ только эхо, - и было это очень жутко. Люди, видимо, ничего не слыхали, и никто не явился на зов.
Югао вся дрожала мелкою дрожью и была сама не своя. Обливаясь холодным потом, она почти лишилась сознания.
"Госпожа от природы страшная трусиха! Что теперь делать!" - сказала Укон. Югао на самом деле была такая робкая и тихая, что даже днем только и делала, что задумчиво глядела на небо.
"Бедненькая!" - подумал Гэндзи.
"Придется пойти самому и поднять людей. Хлопать в ладоши. - но это эхо в ответ действует так неприятно. Побудь здесь. немного!" - сказал он Укон и, усадив ее подле Югао, направился к двери, ведущей в западную половину, открыл ее, - оказалось что и на галерее свет тоже погас.
Дул легкий ветер. Людей здесь было очень немного. Здесь находились: сын смотрителя дома - молодой человек, находившийся в личном услужении Гэндзи, его дворцовый отрок и обычный выездной слуга. Когда Гэндзи их окликнул, они отозвались и поднялись.
"Принесите свет! Да пусть мой выездной натягивает со звоном тетиву своего лука. Вы же все подавайте голос! Можно ли спать так беззаботно в таком уединенном месте? Корэмицу не приходил?" - спросил Гэндзи.
"Приходил, но так как приказаний от господина не было, то он и ушел, обещав на рассвете явиться", - отвечал сын смотрителя.
Говоривший это сам был из дворцового караула. Грозно звеня тетивой и с кликами "слу-ушай!" он направился в помещение смотрителя за огнем.
Гэндзи вспомнился дворец. "Вероятно, там идет сейчас проверка ночных караулов, и как раз в этот момент перекликается ночная стража... " - сообразил он.
Стояла еще глубокая ночь. Вернувшись в свои покои, он дотронулся до Югао: она лежала в прежнем положении. Рядом с нею, уткнувшись лицом вниз, распростерлась Укон. Гэндзи потянул ее и окликнул:
"Что с тобой? Сумасшедшая трусиха! Боишься, видно, как бы не накинулись на тебя в этом пустынном месте какие-нибудь привидения? Я - тут, поэтому никто на тебя не нападет!" - сказал он.
"Какой ужас! Я уткнулась потому, что сердце так колотилось, было так страшно. Но с госпожой, кажется, совсем плохо... " - проговорила Укон.
"Что? Как?" - воскликнул Гэндзи.
Он дотронулся до Югао, но она - уже не дышала! Стал трясти ее, но она лишь подавалась всем его движениям и не выказывала никаких признаков жизни. И Гэндзи в отчаянии понял, что призрак отнял у нее - робкой и слабой - жизнь.
Показался молодой слуга со светильником в руках. Так как и Укон не была в силах даже пошевельнуться, то Гэндзи, заслонив их ширмами, что стояли тут поблизости, сказал слуге:
"Давай сюда!" Однако, ввиду того, что это было не в обычае, слуга постеснялся и не посмел подойти к самому Гэндзи, не смея переступить даже порога.
"Давай же сюда! Сейчас не до церемоний!" - подозвал его тот.
Смотрит Гэндзи и видит, что у изголовья Югао опять тень - той самой женщины, что представлялась ему во сне. Появилась - и сразу же исчезла.
"Я слышал о таких вещах в старых сказаниях, - и это так необычно и страшно! Но что же случилось с нею?" - подумал он и в душевном смятении, не помня самого себя, лег рядом с Югао, звал ее, тряс, - но она становилась все холоднее, и дыхания у нее уже не было вовсе.
Сделать что-либо было уже нельзя. Не было никого, кому можно было бы довериться и с кем посоветоваться. В таких случаях можно было бы найти помощь у бонзы, но не было и такого. Гэндзи старался крепиться, но - был еще сам молод, поэтому при виде Югао, которую постигло такое несчастье, он не знал, за что взяться. Крепко обнимая ее, он воскликнул:
"Возлюбленная моя! Вернись к жизни! Не давай мне столкнуться с таким горем... " Но она оставалась бесчувственной, и жизнь от нее уже отошла.
Наконец Укон, - несколько прошло то состояние, при котором она могла лишь восклицать: "Ах, какой ужас!" - разразилась отчаянными рыданиями.
Гэндзи вспомнил один подобный случай, когда в Южной палате дворца злой демон однажды напал на министра. Стараясь овладеть собою, он прикрикнул на Укон:
"Она, может быть, еще и не совсем умерла... А ты так кричишь, да еще ночью". Однако и сам он метался из стороны в сторону и не находил себе места.
Обратившись к слуге, он сказал:
"На госпожу напало здесь какое-то страшное существо, и она теперь сильно страдает. Ступай сейчас же туда, где остановился Корэмицу, и скажи ему, чтоб он немедленно шел сюда. Если там окажется и тот самый монах, скажи потихоньку и ему, чтоб приходил сюда. Да не наделай шума, чтоб не услыхала моя кормилица монахиня. Она относится неодобрительно к таким моим похождениям". Так говорил он, а у самого стеснило всю грудь. С отчаянием он подумал: ведь это он убил ее!.. Ко всему этому и страх одолевал его беспримерно.
Было, вероятно, уже за полночь. Ветер становился все более пронзительным, и шум от сосен тяжело отдавался в ушах. Какие-то неведомые ему птицы кричали хриплым голосом. "Верно, совы... " - подумал Гэндзи. Что бы ни хотел он предпринять - вокруг него не было слышно ни одного человеческого голоса. "И зачем я забрался сюда, в это жалкое жилище!" - каялся он, но было уже поздно.
Укон, сама не своя, прижималась к Гэндзи и дрожала смертельною дрожью. "Еще и с этой что-нибудь случится! - думал Гэндзи и крепко держал ее в своих руках. - Выходит, что я один сохраняю присутствие духа... Неужели нельзя ничего придумать?"
Свет в светильнике едва-едва мерцал; на ширмах, стоящих в углу комнаты, то там, то здесь мелькали тени, слышался звук шагов, как будто кто-то ходит; сзади, казалось, кто-то подходит... "Скорей приходил бы Корэмицу!" - раздумывал Гэндзи.
Было точно неизвестно, где должен был заночевать Корэмицу, и пока его разыскивали, наступил уже рассвет, - время тянулось; Гэндзи казалось: "Целая вечность".
Наконец вдали послышалось пение петуха. "И за какие грехи терплю я теперь вот все это? Не наказание ли это за то, что я обратил свои взоры на ту, на которую не смел? И теперь это - урок мне на всю жизнь. Как ни скрывать, все равно от света ничего не скроется. Узнают и при дворе; об этом станут говорить решительно все; даже злые мальчишки - и те станут насмехаться. И приобрету я в конце концов самую глупую репутацию... " - носилось в голове у Гэндзи.
Появился наконец Корэмицу. Обычно он и поздней ночью, и ранним утром - всегда служил желаниям своего господина, - и как раз именно в сегодняшнюю ночь его при нем не оказалось; да еще и на зов он явился так поздно. "Негодный!" - думал Гэндзи и, призвав его к себе, не был в силах приступить к рассказу, - не мог ничего сразу выговорить.
Укон, слыша, что пришел Корэмицу, припомнила, как все это шло с самого начала, -и зарыдала. Не мог больше выдерживать и сам Гэндзи. До этого момента он сохранял присутствие духа' и поддерживал Укон, теперь же - при Корэмицу - он не мог более совладать с собой: почувствовал, как велико горе происшедшего, и некоторое время только рыдал, не будучи в силах остановить свои слезы.
Так, помедлив немного, он обратился к Корэмицу:
"Тут произошло странное событие. Сказать ужасное - мало... Случилась неожиданная беда с Югао... Нужно хотя бы начать чтение сутр, нужно приняться за дело! Нужно начать моления... Я же говорил, чтоб пришел и монах... " - сказал он.
"Тот ушел вчера в монастырь. Да, действительно неожиданный случай! Она и раньше чувствовала себя нездоровой?"
"Нет, совсем нет!" - отвечал Гэндзи.
Вид его - всего в слезах - был так трогательно-прелестен, что взиравший на него Корэмицу расплакался сам.
Будь здесь люди пожилые, прошедшие чрез жизненный опыт, - они, несомненно, нашлись бы при подобных обстоятельствах, но все трое, здесь находившиеся, - Гэндзи, Корэмицу, Укон, - были еще молодежь и растерялись.
"Обращаться к смотрителю дома - не стоит. Сам он-то человек верный, но тут замешаются всякие родные, и они, конечно, проболтаются. Знаете что? Уезжайте отсюда!" - сказал Корэмицу.
"Да где же найдешь место более уединенное, чем это?" - возразил Гэндзи.
"Это верно! В доме госпожи Югао - много женщин. Они примутся горевать, плакать, подымут переполох... Вокруг - соседи, найдет масса людей, что обвинят нас, - и дело получит огласку. Вот если б в монастырь в горах! Там вообще устраивают различные похороны, и дело могло бы пройти незамеченным", - говорил Корэмицу и после некоторого раздумья добавил: - "Перевезем госпожу в один монастырь, где живет одна моя знакомая женщина, постригшаяся в монахини. Она приходится кормилицей моему отцу и теперь в очень преклонных летах. Народу там, положим, довольно много, но все-таки место тихое", - предложил Корэмицу.

Повесть о смуте в годы Хэйдзи. Горизонтальный свиток с живописью. XIII в.
Было уже начало утренней зари, когда Корэмицу вывел экипаж. Гэндзи был не в силах поднять Югао, поэтому Корэмицу, обернув ее циновкой, положил в экипаж сам. Она была прелестна, - миниатюрная и не вызывающая такого неприятного чувства, как обычно мертвые. Покрыть ее всю не удалось, поэтому на край экипажа вылезли ее волосы. При виде их у Гэндзи помутилось в глазах, его пронизала жалость и скорбь; и захотелось ему быть с нею до самого конца. Но Корэмицу заявил:
"Садитесь скорее на коня и поезжайте домой! Скоро уже утро - и начнет толпиться народ". С этими словами он подсадил Укон в экипаж к Югао. Ввиду того же, что лошадь свою он предоставил Гэндзи, то сам отправился пешком, подоткнув полы своей длинной одежды.
Путешествие в таком виде было для него совершенно неожиданным и непривычным, но он о себе и не думал, видя, как страдает Гэндзи, и жалел его.
Гэндзи, как во сне, прибыл к себе домой.
Домашние встретили его возгласами:
"Где это господин был? У господина очень нехороший вид!"
Но Гэндзи прошел прямо к себе в опочивальню и, сжимая грудь, погрузился в печальные думы: "Почему я не отправился в экипаже вместе с нею? А вдруг она очнется... Какое будет у нее чувство? Ведь она с горечью решит: "Гэндзи бросил Югао и ушел от нее!"
В душевном смятении он думал то одно, то другое... и чувствовал, что всю грудь его захолонуло. Разболелась голова, в теле начался жар; мучился он чрезвычайно. "Как бы и мне не окончить так же печально свои дни!" - думалось ему.
Солнце стояло уже высоко, а Гэндзи все еще не вставал с постели. Все дивились и уговаривали его хоть съесть что-нибудь, но Гэндзи только терзался и чувствовал себя очень плохо. Явился посланный из дворца: оказывается, государь был очень обеспокоен тем, что Гэндзи вчера весь день не показывался при дворе. Явилось к Гэндзи и много молодых придворных - сыновей министра, но он приказал впустить к себе одного только Тюдзё - и то на минуту. Разговаривал с ним он чрез занавеску.
"У меня есть кормилица. Еще с пятой луны этого года она сильно занемогла. Постриглась в монахини, приняла обеты и, может быть, от этого некоторое время чувствовала себя лучше, но вот с недавнего времени болезнь снова вернулась к ней, и она очень ослабела. Все говорила, что ей очень хочется еще хоть разок повидать меня, и так как я с детских лет привык к ней и принимал, что она может счесть меня бессердечным, то и отправился к ней. В доме же у нее был один слуга, который болел, и как раз в этот день он внезапно скончался. Я узнал потом, что, стесняясь меня, его унесли только по прошествии целого дня, поэтому и считал, что неудобно теперь, когда идут священные службы, появляться во дворце. Сегодня же с утра - я кашляю, болит голова и вообще чувствую себя скверно. Ты уже прости, пожалуйста!" - сказал Гэндзи.
"Хорошо! Я так и доложу. А то еще вчера вечером во время увеселений государь послал меня разыскать тебя и был недоволен, - ответил Тюдзё и, остановившись на пороге, заметил: - Чем это ты мог так оскверниться? Все, что ты рассказал, как-то не похоже на правду... "
Гэндзи весь сжался:
"Не рассказывай там подробностей! Доложи только, что соприкоснулся, мол, он неожиданно со скверною. Чтобы не придавали этому всему особого значения". Говорил он по виду твердым голосом, но в душе чувствовал невыразимую скорбь. Сердце его ныло, и он не захотел больше видеться ни с кем. Призвав только Куродо-но бэн, он попросил его доложить обо всем государю да послал известить тестя-министра, что случилось с ним осквернение и поэтому он не может прийти.
Когда стемнело, явился Корэмицу. Так как Гэндзи объявил, что на нем - скверна, то все приходившие к нему, постояв минуту, сейчас же уходили, и около него поэтому никого почти не было.
Призвав его к себе, Гэндзи спросил:
"Ну, что? Значит, она скончалась уже наверное?" - и, закрыв лицо рукавом одежды, заплакал. Заплакал и Корэмицу.
"Да! Жизни ее пришел конец! Оставлять ее такое долгое время было неудобно, и я сговорился с одним знакомым мне почтенным старым бонзою на завтра: свершить, если день будет хорош, то, что нужно", - сказал он.
"А что с той женщиной, что была при ней?" - спросил Гэндзи.
"Похоже на то, что и она не выживет! Сегодня утром она "пыталась было броситься вниз с горы", в полном душевном расстройстве крича: "Я - за госпожою!" Она было объявила, что пойдет расскажет про все у них в доме, но я ее уговорил: потерпи немного! Сначала обдумаем все хорошенько... " - рассказывал Корэмицу, и Гэндзи нашел, что он поступил правильно.
"А я тоже страдаю ужасно. Сам думаю: уже не случится ли что-нибудь и со мною... "
"Ну, что вы там еще придумали!.. Ведь то, что произошло, - вещь неизбежная. Со всеми так будет. Если же вы хотите, чтоб никто об этом не проведал, Корэмицу возьмет все на себя и сделает все, что следует", - говорил Корэмицу.
"Ты - прав! Я и сам так думаю; но мне тяжело, что из прихоти своего сердца я убил ее понапрасну и теперь понесу на себе ее ненависть и скорбь. Смотри, ты не рассказывай ничего даже сестре своей. Тем более же матери-монахине. Она всегда предостерегала меня, и мне теперь так стыдно перед нею... " Так замкнул уста Корэмицу Гэндзи.
Прислушивавшиеся к этому разговору женщины в доме Гэндзи дивились между собой:
"Что за диковина! Говорят, что осквернился, не идет во дворец, шепчется там и вздыхает... "
Гэндзи снова заговорил о похоронах.
"Смотри сделай же все как следует!"
"Уж конечно! Тут ничего трудного и нет", - ответил Корэмицу и поднялся, чтоб уходить. Тут Гэндзи в сильнейшей тоске заявил:
"Я знаю, что это - неудобно, но я не в силах не повидать еще раз останки Югао. Я поеду с тобою, верхом на коне!"
Корэмицу считал это лишним, но все же сказал:
"Если вы уж так хотите, то делать нечего. Только едем скорее, чтобы вы успели вернуться домой до ночи".
Гэндзи переоделся в ту самую охотничью одежду, которую он изготовил себе для последнего времени, и вышел из дому.
На сердце у него было мрачно, и страдал он невыразимо. "Что, если и я на этом необычном пути повстречаюсь с такой же напастью?" - волновался он и никак не мог совладать со своею печалью.
"Увижу теперь все, что осталось от Югао, и когда, в каком мире мне придется повстречаться с ней опять?" -думал он.
Отправился он, как обычно, с одним Корэмицу и слугою.
Путь показался ему очень длинным. На небе светила полная луна. Впереди - у реки Камогава - мерцали огоньки. При виде кладбища, - как пи было оно неприятно в обычное время, - теперь он не почувствовал ничего.
В сильнейшем волнении прибыл он к месту. Место было мрачное; рядом со столиком стояла часовенка: здесь жила отдавшаяся исполнению буддийских обетов монахиня; и все вокруг имело весьма печальный вид. Сквозь щели домика просвечивал огонек светильников. Изнутри доносился голос плачущей женщины, снаружи же беседовали друг с другом двое-трое бонз. Они читали молитвы, - причем нарочно не возвышали голос. В самом монастыре вечерние службы уже закончились, и вокруг была тишина. Только в стороне Киёмидзу виднелось много огоньков, и там было много народу.
Когда бонза, сын этой монахини, начал мерным голосом возглашать священную сутру, у Гэндзи из глаз хлынули безудержные слезы.
Он вошел в домик. Спиною к свету за ширмой лежала Укон. Видно было, что она находилась в состоянии полного отчаяния. Взглянув на Югао, Гэндзи не ощутил никакого неприятного чувства: она была необычайно прелестна, и вид ее ничуть не изменился против обычного. Схватив ее за руку, он воскликнул:
"Дай мне еще хоть раз услышать твой голос! И что это за судьба наша такая? Так недолго пришлось мне любить тебя всем сердцем, и вот теперь ты бросила меня и погрузила в пучину смятения. Это ужасно!" И, не щадя голоса, он рыдал без конца. Бонзы, не зная, кто такой этот молодой господин, дивились всему и сами проливали слезы.
Обратившись к Укон, Гэндзи проговорил:
"Поедем со мною ко мне в дом!"
Но та отвечала:
"Как я могу расстаться с той, к кому так привыкла, с кем не разлучалась в продолжение долгих лет, с самого детского возраста? К тому же и люди станут расспрашивать меня: "Что сталось с госпожою?" И само по себе все это печально, а когда станут еще наговаривать на меня, что я виновата, будет совсем ужасно! - говорила она и в душевном смятении рыдала. - Вслед за дымом ее костра - последую и я!" - воскликнула она.
"Конечно, все это так! Но ведь таков уж весь этот мир. Разлука, разумеется, не может не вызывать чувства скорби, но ведь, что ни делай, всем нам предстоит такая участь... Успокойся и положись отныне на мою помощь! - убеждал ее Гэндзи, а в то же время сам был совершенно безутешен. - Я говорю так, а сам чувствую, что не выживу долее... "
Тут вмешался Корэмицу:
"Ночь уже близится к рассвету. Пора ехать обратно", - сказал он, и Гэндзи, оглядываясь все время назад, со стесненным сердцем вышел из домика.
Дорога была покрыта росой, стоял густой предрассветный туман, и у Гэндзи было чувство, будто он блуждает неизвестно где. Всю дорогу в мыслях у него была Югао, лежавшая совсем как живая, прикрытая его пунцовой одеждой, той самой, что прикрывались они вдвоем на ложе. "Отчего так случилось?" - раздумывал он всю дорогу.
Видя, что Гэндзи не в состоянии твердо держаться на коне, Корэмицу ехал рядом и поддерживал его. Однако у береговых валов реки Камогава Гэндзи все же упал с коня и в бесконечном душевном волнении воскликнул:
"На такой дороге мудрено ли не потеряться совсем? У меня такое чувство, что вряд ли доберусь до дома... "
Взволновался и Корэмицу. "Хоть и говорил он, что чувствует себя крепким, но все же не стоило брать его с собою в такую дорогу!" - подумал он и в волнении то омывал руки в речной воде, то взывал к богине Каннон и не знал, что ему и предпринять.
Наконец, Гэндзи с трудом овладел собою и, молясь в душе Будде, кое-как поддерживаемый Корэмицу, добрался до дому.
Домашние только вздыхали по поводу его таких загадочных хождений позднею ночью и говорили друг с другом:
"Как это нехорошо! Последнее время господин наш как-то неспокоен, более чем обыкновенно; зачастил ходить по тайным свиданиям. Вчера он чувствовал себя таким нездоровым... И зачем ему понадобилось где-то скитаться?"
Гэндзи на этот раз слег уже непритворно и заболел не на шутку. Прошло два-три дня, и он совсем ослабел от болезни. Узнали про это во дворце и горевали там безгранично. Моления о его здравии возносились беспрерывно. Жертвоприношения, молебны, чародейские очищения - всего и не перечесть! Все переполошились: "Уж не будет ли и здесь, как всегда: люди беспримерно прекрасные - долго не живут на земле?"
Но, даже томясь и страдая, Гэндзи призвал к себе Укон и поместил в своем доме, в покое неподалеку от его собственного. Корэмицу же хоть и сам был в большом беспокойстве, но, овладев несколько собою, помогал ей устраиваться возле Гэндзи, так как она пребывала в состоянии полного отчаяния.
Ввиду того, что Гэндзи, едва только он чувствовал временное облегчение в своих страданиях, сейчас же призывал к себе Укон и держал ее возле себя, то скоро Укон ближе сошлась со всеми. Была она в темной одежде, и наружность ее была не из очень красивых, но все же она была молода и назвать ее безобразной было нельзя.
"Видимо, и я не выживу на этом свете... Разделю ее судьбу, судившую ей такие недолгие дни. Ты утратила в ней свою долголетнюю опору и, верно, очень скорбишь... Я и думал, что в утешение тебе буду - если выживу - обо всем заботиться для тебя, но скоро, наверно, и сам я присоединюсь к ней! Как все это грустно!.." - говорил ей Гэндзи наедине. Он был так слаб и так плакал, что Укон, забыв о своей собственной судьбе, с жалостью помышляла только о нем.
Все домашние Гэндзи носились по всему дому, волновались. Из дворца летели посланцы чаще, чем капли дождя. Гэндзи, слыша, как горюет сам государь, преисполнился признательности и старался крепиться.
И тесть его, министр, всячески заботился о нем: являлся к нему ежедневно, устраивал ему все, что нужно; и, может быть, от этих забот, - как ни был слаб, как ни мучился Гэндзи, болея двадцать дней, - но болезнь стала сдавать. В ту самую ночь закончился срок и его очищения от скверны, и Гэндзи переехал во дворец, побуждаемый к тому безутешным состоянием государя.
Тесть сам приехал за ним в своем экипаже и усиленно уговаривал его быть осторожным: "Смотри! Ведь болезнь!.. и то, и другое... "
В первый момент Гэндзи казалось, что он - будто бы и не он сам; будто он перешел в какой-то иной мир.
Двадцатого числа девятой луны болезнь его прошла совсем, и хоть похудел он очень сильно, но стал прекрасным больше прежнего; только остался задумчивым и постоянно со слезами на глазах. Одни его порицали, другие только говорили: "Тут какое-то наваждение!"
Однажды, тихими сумерками, привел Гэндзи к себе Укон и стал с нею беседовать.
"Очень странно все это! Отчего твоя госпожа так и не открыла мне, кто она такая? Пусть и была бы она "дочерью рыбака, не знающей имени"... Нет, она вообще как-то таилась от меня, не обращая внимания, что я ее так любил. Это очень горько!" - говорил Гэндзи.
"Отчего она так старательно скрывала? - возразила Укон. - Видите ли, некоторое время спустя она бы вам, несомненно, сказала свое имя, вначале же все случилось так странно и неожиданно, что она сама говорила мне, будто все это кажется ей каким-то сном. Вы ведь тоже скрывали свое имя... "Что ж, дело его!" - говаривала госпожа и с горечью думала, что вы ее только обманываете... " - говорила Укон.
"Ужасная упрямица! У меня никогда и в мыслях не было скрывать что-либо от нее. Просто я не привык еще к таким поступкам, что не разрешаются светом, и не знал, как устроить лучше. Подумай: прежде всего я имел бы выговор от государя, - и вообще вокруг меня много разговоров. Пошучу с кем-нибудь - и то сейчас же делают из этого целую историю. Положение мое очень затруднительное! Однако то обстоятельство, что с того самого случайного вечера ее образ сразу запал мне в сердце и вышло так, что мы с нею сблизились, свидетельствует о том, что здесь - не что иное, как судьба! Раздумываешь теперь о случившемся и преисполняешься грустью. Вновь и вновь возвращаешься мыслью к прошлому, и так горько на душе... Укон, расскажи мне о ней подробнее! Чего теперь скрывать? К тому ж - вот на сорок девятый день, в день помина, когда я закажу написать иконы будд, - надо же мне хоть в мыслях иметь: для кого это все... " - просил Гэндзи.
"Скрывать теперь действительно нечего. Я думаю, что и она сама теперь, после кончины своей, жалеет, что все время таилась... " - согласилась Укон и стала рассказывать.
"Родители ее умерли рано. Отец ее был Самми-но тюдзё. Он очень любил дочь и всегда считал, что его положение не может обеспечить ей завидную участь. Вскоре после его кончины госпожа как-то случайно повстречалась с господином Тюдзё, тогда еще бывшим только в звании Сёсё. Три года - при самом искреннем чувстве - длилась их связь, но вот прошлой осенью от его тестя, "правого министра", последовали письма с угрозами, и она, всегда очень робкая и пугливая, сильно перепугалась и решила перебраться потихоньку в дом, где жила ее кормилица, в западной части города. Там было очень скверно и жить было трудно, и госпожа собиралась в деревню, но как раз в этом году дорога, по которой ей надлежало ехать, оказалась закрытой, и, чтоб не подвергаться беде, она и перешла вот в тот ужасный дом, где вы ее открыли, о чем она, между прочим, всегда сокрушалась. Она ведь была так непохожа на всех других: застенчивая, всегда со стыдом помышлявшая, что другие могут узнать об ее связи... А вам казалось, будто у нее нет сердца!.. " - говорила Укон.
"Вот оно что!" - подумал Гэндзи, и становилась ему Югао все милее и милее.
"Тюдзё одно время горевал, что потерял из виду ребенка... "
"Был у нее такой?" - спросил Гэндзи.
"Был. Родился весною позапрошлого года. Это была девочка, такая прелестная", - ответила Укон.
"Где же она теперь? Не говори никому ничего и отдай ее мне! Я остался теперь пи с чем, и мне - тяжко. Девочка же будет служить мне памятью о Югао. Я буду так рад ей, - говорил Гэндзи. - Можно было бы все рассказать и Тюдзё, но этим навлечешь только на себя его неприязнь, - продолжал он. - Я не думаю, чтобы при всех этих обстоятельствах кто-нибудь стал бы меня порицать за то, что я буду ее воспитывать. Впрочем, ты и кормилице скажи что-нибудь другое... "
"Это будет очень хорошо! - воскликнула Укон. - А то так Жалко бедняжку, что должна она расти в доме этой кормилицы, в западной части города. Ее ведь поместили туда только потому, что не было надежного человека, который бы мог ее воспитать", - говорила она. Стояла сумеречная тишь, вид неба был прекрасен: средь увядающих растений садика перед покоем Гэндзи хрипло звучали голоса певчих осенних цикад; листва на клене начинала немного алеть, все было так красиво, как будто нарисовано на картине.
Укон, оглядевшись вокруг, почувствовала неожиданно для самой себя, как хорошо жить в этом доме! Вспомнила о том доме - жилище Югао, и было сладко-печально это воспоминание.
В бамбуках послышались противно-протяжные крики птиц, и Гэндзи с любовью вспомнился облик Югао, так пугливо тогда - в том уединенном жилище - внимавшей этим птицам.
"Сколько лет ей было? Удивительно... Не в пример всем другим, она всегда казалась такой слабой и юной! Верно, все это оттого, что была она не жилицей на этом свете... " - проговорил Гэндзи.
"Ей было девятнадцать лет! - ответила Укон. - После того как умерла моя мать и оставила меня одну на свете, отец госпожи обласкал меня и все время воспитывал подле дочери. Подумаю теперь об этом и представить себе не могу: как это я все еще могу жить на этом свете?! Теперь я так раскаиваюсь, что тогда недостаточно любила ее, такую добрую и нуждающуюся в поддержке... И, наоборот, сама привыкла искать в ней опоры... " - говорила Укон.
"Именно такие женщины мягкого нрава нам и милы, и наоборот: себе на уме, никак не желающие подчиниться - так неприятны! Я сам по характеру человек нетвердый и неустойчивый, и - при такой ее мягкости - мог бы бросить ее и обмануть. Но те, кто так скромен, так готов подчиниться всякому нашему желанию, больше других привязывают к себе наше сердце. Когда видишь, как стараются они поступить так, как мы хотим, так желаешь их и так любишь!" - говорил Гэндзи.
"Она была именно такой, каких вы любите. Ах, подумаешь обо всем, как досадно, что все так случилось!" - опять заплакала Укон.
Небо тем временем заволоклось облаками, повеял прохладный ветер, и Гэндзи в глубокой задумчивости с тоской прошептал:
"Дымок, что вознесся
С любимой костра, -
Облачком вижу...
И вечернее небо
Родным стало мне!"
Укон не дала ему ответа. "Если бы она была тут!" - подумал Гэндзи про Югао, и всю грудь его стеснила тоска. Он вспомнил те звуки от каменных плит, что так навязчиво звучали в ушах тогда, и даже они показались ему теперь милыми. Шепча про себя слова из поэмы: "Эти долгие-долгие ночи... " - он удалился в опочивальню...
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления